
Зеленый конь на белом снегу. Часть-3 |

Русалка (33) Дул широкогрудый напористый ветер. На небе собирались в стаю тяжелые, сердитые тучи. Шло к непогоде. Еще чуть-чуть и будет, как шутливо говорят в народе: «Ветер с сучками и дождь с кирпичами»… Суббота сидел на берегу Сугробки и еле слышно играл на губной гармошке. У парня в сердце тоже была непогода. – Иди ко мне, милый! – услышал Ветров ласковый, знакомый голос. «Может мне почудилось? Шум камышей принимаю за голос любимой…» Суббота не раз пытался объясниться с Раей Паночкиной, но безуспешно. Она отмалчивалась или искусственно меняла тему разговора. Он и в армии, и вернувшись домой всё никак не мог понять, что произошло с его единственной страстью, любовью. Она вышла замуж за Среду, хотя раньше к нему никаких чувств не питала, была равнодушна. – Милый, иди ко мне! Снова услышал музыкант. Гладь реки запузырились от редких, больших капель дождя. Камыш от натиска разбуянившегося ветра, стал клониться, ложиться на воду, загудели двухобхватные ветлы. – Кто здесь? – Твоя единственная! – из-за камышей выплыла девушка. – Р-ра-ая?! – Да, милый. – Я, я ничего не понимаю? – Сейчас все объясню, – из бурлящей кипятком от ливня воды на мгновенье показался большой рыбий хвост. – Ты русалка? – замер, побледнел Суббота. – Сейчас да! А была когда-то Раей Паночкиной. – Но-о.. – Слушай, не перебивай, – она подплыла к берегу. – Тогда исчезла не Ада Паночкина, а я – ее сестра Рая. – Но… – Меня изнасиловала стайка дебилов. Поддавшись минутному отчаянию, я утопилась. Ада очень тянулась к Среде. Он же к ней был холоден. Это она придумала трюк с черным платочком в белый горошек и до сих пор живет под моим именем. Я ее не осуждаю. Меня все равно уже не вернуть в обычную жизнь людей, а она до сумасшествия, исступления любила твоего брата и пошла на обман, чтоб быть с ним. От этого и ее холодность к тебе… Понимаешь? – Да-а, но-о… Суббота пришел с речки в полночь. Вся одежда была на нем мокрой – ни одной сухой ниточки. Он блаженно улыбался, дрожал и бубнил посиневшими губами одну и ту же фразу: «В такие ночи вешаются…» Султан (34) Пятница в тихий летний полдень опрыскивал кусты картофеля – травил колорадских жуков. – Их травишь-травишь, а им хоть бы что! Размножаются и размножаются гады, – рассуждал Ветров пятый. Глядя на десятки парочек совокупляющихся жуков, у Ветрова появилась сладкая тяжесть в паху. – У глупых букашек все нормально в личной жизни, у меня же - фигня. Быстро, кое-как, закончив опрыскивание картошки, Пятница побрился, покрасил трехцветные усы и седеющие виски черной краской, обильно подушился резко-пахучим, как гуталин, одеколоном, приоделся и пошел к большому, каменному мосту. Ночью Любовь Ивановну и Субботу разбудила громкая хриплая музыка и пьяные вопли, идущие из комнаты Ветрова пятого. – Сынок, иди посмотри, чтоб беды не случилось, – попросила Субботу расстроенная мать. – И дай, пожалуйста, таблетку «Валидола»… Суббота подошел к комнате брата, постучал в дверь, позвал Пятницу, но видно его не услышали. Из-за дверей неслось: – Баобаба, ко мне! – горланил Ветров пятый. – Щас! Господин! – Подружка, тебе помочь? Раздавались пропитые и прокуренные женские голоса. – Баобабы! Грубо заласкаю, замилую! Ветров шестой толкнул дверь от себя. Она со скрипом распахнулась. В Субботины глаза ударил яркий свет, в нос – едкая вонь табачного дыма и сивухи. Старенький, побитый магнитофон хрипел песней из репертуара группы «Сектор газа». Суббота не сразу разглядел за пеленою сизого дыма лежащего на диване средь толстых подушек Пятницу. Тот был в просторном красном женском халате и неком головном уборе из пестрых женских колготок, отдаленно напоминающем восточную чалму с петушиным пером сверху. – Шо, брателло, шары вылупил?! Слоненка рожать собрался? – спросил вошедшего «султан» и царственно поманил к себе мизинцем. Суббота подошел к магнитофону и выдернул «вилку» из розетки. Тишина. – Ну и бардак у тебя, Пятница. Словно Мамай со своей ордой здесь прошел… – Мы не виноватые. Самогонка виноватая! – нестройно заверещали нечесаные, с опухшими лицами девки. Одна была косая и беззубая, другая – с синими «фонарями» под глазами – «синеглазка». – Это, я так думаю, две Сифилисы. Одна преглупая, другая престрашная! – Ты угадал, Выходной. Могу с тобой поделиться. – Благодарю, не надо. Собирайтесь, сучье семя, и побыстрей! – Ветров шестой стал подгонять к выходу шалав. Сунул им в руки недопитую бутылку с самоплясом, кое-какую закуску. Те, схватив свои шабалы, полуголые, выскочили вон, в ночь. – Пасиба! Пасиба! – благодарили синячки Пятницу за вечеринку и Субботу – за данные с собой выпивку и закуску. – Забудьте сюда дорогу! – крикнул в темень Суббота. – Что ж ты, змей-горынович, моих баобабов разогнал. – Ты на них, брат, погляди, когда трезвым будешь. Уверен, тебя вырвет. – Гм-м, ты прав, Выходной. Я когда вижу своих подружек на чистую, свежую голову, мне хочется плеваться и материться. Бывает, поташнивает. Но, что сделаешь? Живой человек – хочется любви, ласки и праздника. И во-о-още-е ску-ка-сука!.. Причуды Ветрова третьего (35) К Среде на несколько дней приехал погостить друг, сокамерник, сосед по нарам – Эдуард Разбрызгин. Они устроились в просторной столовой за большим столом. Закуска и выпивка простая, здоровая: вареная картошка, соленые огурцы, квашеная капуста, селедка и бутыль водки. Выпив по гранчаку водки, они вышли во двор покурить. – Знатно у тебя здесь, Среда! – А то. Ля-по-та! Я бывает этак ночью выйду на крыльцо. Покурю. Подмигну звёздам и тихо промурлыкаю: «Гори, гори, моя звезда… – А ты поэт, Среда! – Есть немного, Эдя! Они зашли в дом и продолжили застолье. Жена Среды убрала грязную посуду, принесла новые блюда. Чуть позже на столе появился торт с большими бокалами крепкого черного чая. Откусив кусок торта, Среда с полным ртом, изрек: – Черный хлеб в неволе слаще торта на воле. – Да, философ, ты прав. – Эдя, я всегда прав… Рая, принеси еще пузырь водки. – Милый, может на сегодня хватит?! Ветров набычился. – Брателло, у меня есть хороший раствор. Может по кубику, – предложил гость. – Можно, для разнообразия. Эдя, «вчера» – было? – Было! – Есть «сейчас»? – Есть! – Вот. А «завтра» может и не наступить. Надо все брать от жизни. Они «укололись». Разомлевший Ветров третий попросил жену принести ножи. Паночкина смиренно, поджав губы, принесла с десяток разномастных кухонных ножей. – Моя женушка и Мамай терпеливые женщины! – Какой еще «Мамай»? – Мамаем я зову тещу. Любя. Ветров третий разложил на столе в ряд ножи и стал, не торопясь, с расстановкой, их метать в дорогую дубовую дверь. Разбрызгин заметил, что дверь вся в мелких выемках и росчерках. – Ты не первый раз метаешь ножи? – Не первый, Эдя. Я так расслабляюсь. – Кстати, Среда, что ты можешь сказать о вашем сугробовском мэре Адольфе Наполеоновиче Македонском? Меня просили узнать. – Что сказать?! Он гордо несет свое пузо! – Заметь не знамя, а пузо! Зажрался и заворовался боров. Он уже в годах, а морда чистая, ровная, без морщин, словно зад красотки. – Ха-ха-ха! А ты, брат, еще и юморист. – А-то! – Сейчас бы, Среда Иванович, еще бокал доброго красного вина, белоснежную простынь и смуглую, знойную самку. – Ты про «барсук»? – Ты, Ветров, говоришь загадками. То «Мамай», то, какой-то «барсук»? – Бар с суками, – уточнил Среда. – Рванем?! – Как голому раздеться! Раечка, солнышко, мы с Эдей поедем в город, проветримся. – Ты же, милый, уже никакой?! – Фигня! – Сумасшедший! – На вас, на всех клоунов насмотришься и начинает башню сносить, – уже одевшись Среда приобнял жену, поцеловал и добавил. – Жизнь – балаган, а мы в ней – в нём клоуны! Не волнуйся, ангел, мы не надолго. Я Эде покажу сугробовские достопримечательности и обратно, би-би, домой, к тебе под теплый бочок. В одном из самых престижных ресторанов Сугробска Среда Ветров и Эдуард Разбрызгин карнавалили до полуночи. Били посуду и переворачивали мебель, танцевали на столах, заигрывали с женщинами, потом отправились по притонам. Ранним утром с помятыми лицами и штанами они вернулись в семейное гнездышко Ветрова третьего. Паночкина прождав мужа всю ночь, обиделась на него и ушла к своей матери. Друзья, кое-как проснулись в полдень, похмелились и отправились на поиски любимой женщины смотрящего города. Среда обзвонил всех общих знакомых. Долго говорил по телефону с «Мамаем». Та сказала, что дочери у нее нет (святая ложь). Бензин в джипе на полпути к теще кончился, а до ближайшей заправки было далековато. Друзья оставили внедорожник и залезли в близстоящий колесный трактор с кузовом. Разбрызгин за рулем. Ветров же – размахивал топором, который оказался в кузове, и истошно орал: – Рая! Ну погоди! Объехав всех подруг жены и нигде не обнаружив Паночкиной-Ветровой, кореша отправились на тарахтящем и разболтанном на российских дорогах, тракторе на остров. У друзей созрел план! Остановились у маленького, покосившегося домика. Он глядел на широкую, неряшливую улицу двумя оконцами-глазками. Одно оконце завешено ветхой и пыльной тряпицей – словно бельмо в глазу. Другое закрыто изнутри куском темной фанеры – словно пустая глазница. Среда, держа в руке редкую «облысевшую» метлу с ярким бантом на черенке, постучал в высокие ржавые ворота. Медленно, боязливо приоткрылась калитка, высунулась остроглазая, крысиная мордашка старушки. – Баба Зося! Это вам! Летайте на здоровье! – Ветров попытался вручить старухе «подарок». Бабка зычно отрыгнула и быстро с шумом захлопнула калитку. Среда перебросил метлу через ворота: – Держи, ведьма! Летай на Плешиху! Раздалось злобное бормотание старухи. Друзья объехали с «подарками» еще несколько домов черных ведьм. Метлы дарители нашли в кузове трактора. Банты на них вязали, порвав шелковый, яркий, французский шарф Разбрызгина. После прикупили с десяток полуторалитровых баллонов с молоком, разжились ящиком пороха и отправились в центр города. Развернув пушку, времен второй мировой войны, в сторону серой, многоэтажной глыбы мерии, открыли по ней пальбу «молочными» снарядами. После нескольких «удачных» выстрелов их вежливо остановил многочисленный патруль милиции… К матери Среда в тот день не заехал. Видно, слишком увлекся раздачей метелок с бантами. Большая Медведица видела из окна хмельного, разудалого своего сына с другом на тарахтящем, поднявшем всех на ноги тракторе. Всю ночь женщина не сомкнула глаз. Пила таблетки от болей в сердце и поднявшегося давления. «Какие они у меня все разные, словно от разных отцов… И почти все – непутевые, с причудами…» – с горечью думала о своих детях мать. Панамы (36) Тянулся жаркий, румяный август: дни похожи друг на друга, все на одно лицо, словно китайцы для европейца. В один из таких дней Вторник Ветров со своим приятелем Санькой Чайником (так его прозвали на острове за бурлящий, часто выпускающий пар, характер) помогали копать картошку Жанне Нетужилкиной – подружке Марьи Периновой-Ветровой. Жанна – крупнокалиберная женщина, подперев руками бока, чуть оттопырив зад, как мартовская кошка, что ждёт ласк кота, важно прогуливалась в ярком купальнике по гектарному огороду, отдавала зычным, командным голосом распоряжения Вторнику и Чайнику. – А у тебя, Жанет, волос красивый… – А-то! Длинный! До талии! – Длинше, до кормы! – грубо пошутил Саня. Нетужилкина заржала – грубо, прокурено, по-мужски. – Она ржала, словно рожала! – вновь сострил Чайник. – Ш-а-а, мальчики! Еще один мешок и жду вас на трапезу, – женщина не торопясь, покачивая бедрами, словно корабль в шторм бортами, поплыла к дому. В центре стола, призывно источая пары и ароматы, камбалой распласталась большая чугунная сковорода, полная картошки с луком и салом. Бравым солдатом стоял запотевший бутыль холодного самопляса. Горка черного, нарезанного крупными ломтями, хлеба. Зеленые, пупырчатые, с грядки снятые, огурчики. Наливные яблоки. – Прошу к столу! – пригласила помощников хозяйка. Вторник с Саней, сопя и чавкая, жадно набросились на еду. Молча утолив голод и выпив по кружке самопляса, стали разговаривать с хозяйкой. – А какой у тебя размер сисек, Жанет? – бестактно поинтересовался захмелевший Чайник. – В семнадцать лет был седьмой. Сейчас поболе будет, – выпятив грудь, ответила Нетужилкина. – То-то тебя и прозвали «Семь сисек». – Да! Западные порно-звезды накачивают себе бюст силиконом, а у меня натуральный, природный… Мужики, при виде моего богатства, дар речи теряют. – То-то ты их и меняешь, как тампаксы. А, щас у тебя мужик есть? – А как же! – Кто он? – Ванька Встанька! – Странное имя. Не знаю такого. Вот он! – женщина засунула руку между грудей и вынула от туда маленького лысого мужичка, величиной с крупный огурец. – Добрый день, товарищи! – сонно зевнув, поздоровался с гостями мужичок. – Добрый день, Ванька! – выпучив глаза, удивленно ответили приятели. – Может у нас с тобой «белка?!» Чудится нам? – перепугано шепнул Сане на ухо Вторник. – Нет, вам не чудится! Я есть! Я существую! – промямлил, насупившись, друг Жанны, поправил галстук и отдернул фалду пиджачка. – Чур-чур-чур меня! – стал отмахиваться Ветров. – Ша-а, мальчики! Хорошего понемножку, пойдем копать картошку, – походя зарифмовала Нетужилина, кокетливо спрятала Ваньку меж арбузных грудей и широким жестом руки указала на огород за окном. Солнце немилосердно жгло. Приятели стали жаловаться на головную боль. – Жаннет, налей еще по кружечке, – канючил Чайник. – Не-е-ету, мальчики! Это у вас от солнца. Вам надо что-то на голову напялить. Щас! Через несколько минут Нетужилина вернулась с двумя одинаково красными, похожими на детские чепчики – панамами. – Докопаете картошку, тогда налью еще по кружечке огненной воды. К вечеру огород пестрел от десятков стоящих в рост белых синтетических мешков с картошкой. – Жаннет, бог любит троицу. Налей по третьей кружечке! – Кто о чем, а свинья о грязи. Ладно, только чтоб до дома дошли без приключений. – Без приключений, Жаннет, без приключений, – заверили хозяйку окосевшие помощники. Приятели выпили, крякнули, закусили хрустящими огурцами. Нетужилина открыла калитку и выпроводила Вторника с Саней на улицу. – Пока, Семь Сисек! – Пока, Чайник! – До свидания, Жанна! – Я уже с вами пять раз подосвиданькалась. Панамы дарю. Носите. – Пасибо, Жаннет! Хорошие, крепкие панамы. Приятели, пошатываясь от усталости и самопляса, брели по улице. Встретившаяся им стайка девчонок звонко, колокольчиками засмеялась. Бабульки-сплетницы, сидящие на бревнышке в конце улицы, тоже беззубо захихикали в ладоши при виде Вторника и Сани. Приятели не обращали внимания. Поздним вечером жена Вторника Марья позвонила Жанне. – Ты, что, Жан, решила пошутить? – Ты о чем, подруга? – Я о красной шапочке, старом твоем лифчике! – А-а, ты о панамах, что я подарила твоему мужу и его приятелю. Как он там, Вторник? – Спит, биби его в дуду. Хоть и пьян, а твою панаму, ха-ха-ха, аккуратно повесил на вешалку. Дорожит твоим подарком. – Хо-хо-хо! Я могу еще подарить пару желтых штук. Есть старенький, но добротный бюстгальтер. Мал он мне стал… Юбилей (37) Понедельник Иванович Ветров своим подчиненным – «верхушке» фирмы «Остров» сообщил, что завтра будет юбилей. Мол, готовьтесь! Чей юбилей? Кого чествовать? – не дал знать. Утром близкое окружение главы фирмы пришло с букетами, с загодя написанными пышными речами. В кабинете Ветрова был накрыт щедрый «шведский» стол: холодные закуски, бутерброды, сладости, напитки и выпивка… – Понедельник Иванович, не томите! Объявите нашего юбиляра! – выказала нетерпение главбух Вероника Альбертовна. – Он перед вами, друзья! – спокойно улыбаясь, ответил шеф и указал на свой черный кожаный портфель. – Он ровно год работает со мной, а значит и с вами, с нашей фирмой… – Но… – потеряли дар речи женщины. – Понедельник Иванович, разрешите поздравить юбиляра, –вмешался начальник по снабжению и реализации. – Говорите Петр. Поздравьте. Мужчина подошел к столу, крепко пожал портфель за ручку и повел речь: «Уважаемый, Портфель Иванович, поздравляем вас, товарищ, с годовщиной службы в фирме «Остров». Желаем вам, дорогой товарищ, всегда быть и оставаться в дальнейшем таким же деловым, нужным, подтянутым, по-деловому строгим и черным. Мы надеемся, что отметим еще ни один ваш, дорогой товарищ, юбилей. Тем более он приходится на 1 апреля – день смеха, день розыгрышей!» Вся компания засмеялась. – Можно мне сказать? – Говорите, Вероника Альбертовна. – Забыли пожелать уважаемому Портфелю Ивановичу, крепкого здоровья, успехов в труде и личного счастья! – Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Хе-хе-хе!.. – Ну, а теперь я скажу, – начал Понедельник Иванович, держа в руке рюмку с водкой. – Мне приятно, что у нас коллектив с хорошим чувством юмора. Мне в прошлом году, на 1 апреля довелось побывать у моря в Одессе – столице юмора бывшего СССР. Стоял солнечный, теплый денек. Легкий ветерок пах морем. Кругом красивые, веселые люди. Смех, розыгрыши… Я от них заразился и решил сегодня вас по доброму пропервоапрелить. Тем более, Портфеля Ивановича я встретил в Одессе и он за энную сумму согласился служить мне и нашему общему делу… – За Портфеля Ивановича!!! – вся компания подняла рюмки и бокалы. – С 1 апреля! – Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Хе-хе-хе!.. Из дневника Шарлотты (38) Часы с кукушкой откуковали полночь, но тетя Шарлотта еще бодрствовала. Она открыла тяжелый и высокий – ростом с нее – несгораемый сейф и достала из него пухлую общую тетрадь под номером 18. Включила настольную лампу, льющую мягкий, приглушенный свет, удобно уселась на табурет с большой, пуховой подушкой, загадочно улыбнулась и сделала несколько новых записей-наблюдений мелким, убористым почерком: «Матриархат набирает силу». Она – огромная, словно копна сена. Он – маленький и подвижный, словно мышонок. Не она за мужем, а он за женой. Сегодня утром Она пекла ему (Отрыжкину) блины. Он съел с десяток, а потом начал капризничать. (У них в доме стоит несколько моих «жучков»): Что, мол, блины с кислинкой, не свежи. Она, его жена, побагровела (Я вела наблюдение в подзорную трубу) и бросила горячий, шипящий маслом блин со сковороды ему (Отрыжкину) на лысину. Он заверещал, сбросил с себя блин и засунул, поскуливая, голову под кран с холодной водой… «Тайны мадридского двора. Кто отец наследника?» Сегодня толстый, косолапый и краснощекий юнец Н – сынок Б получил паспорт. В нем следующее Н. Иванов-Петров-Сидоров – у мальчишки тройная фамилия. Его мать Б., в свое время, в течение года крутила хвостом одновременно с Ивановым, Петровым и Сидоровым. Она, Б. не знает, кто из них отец Н. Поэтому и фамилия у сына тройная… «Клеопатра и ее мужчины». Сегодня вечером П. вышла восьмой раз замуж. Отмечали событие в узком кругу. (Я тихо стояла у окна – глядела и подсушивала). У П. на пальце появилось восьмое обручальное кольцо. Недаром ее, П. соседи и знакомые зовут П. – Золотой пальчик… Скоро весенний паводок! Надо готовиться! Сколотить плот. Вытащить из погреба картошку, все овощи, соления, варения, компоты и гранатомет… Гондольеры на гондолах… (39)* Тарас Тарасович Хлещиборщ проснулся вместе с блеклой, бедной на краски апрельской зарей. У старика жутко ныли суставы. Он не мог повернуть без «охов» и «ахов» голову – саднило шею и плечи – дал о себе знать старый недруг радикулит. Покряхтывая и покашливая, толком не открыв глаза, он спустил с кровати ноги на пол и всем нутром, по-звериному закричал: – А-а-я-я-яй!.. Ночью тронулся лед по реке Сугробке. Вешняя вода быстро покинула берега и за несколько часов не только поднялась до Тарасова дома, но и вошла в него непрошеной гостьей. Стала многоводной и речушка – ручей Нехайка. Мать Сугробка и дочь Нехайка обнялись по- родственному и залили остров водой. Появились десятки маленьких островов-домов. Старик обулся в высокие резиновые сапоги, и, бурча в нос непристойные слова, поковылял спасать свою козу Фею. Через час Тарас Тарасович сидел на покатой крыше сарая. Рядом стояла его любимица и кормилица Фея. Старик захватил с собою овчинный тулуп, шапку ушанку и валенки. Поднял на сарай также самовар с самоплясом, огромный шмат копченого сала, хлеб, лук и несколько баллонов с питьевой водой. Не забыл и огромную охапку сена – козе корм и себе постель, если вода долго не будет уходить. К полудню вода поднялась еще выше. По широкой Сугробке важно, не торопясь шли белыми кораблями сцепившиеся толстые льдины. Они гнули, вековечные, двухобхватные береговые ветлы и срезали с них кору. По улице между домами-островками плавал всяческий сор: бутылки, пластмассовые баллоны, полиэтиленовые пакеты, деревяшки и остальное г…, что островитяне и жители села Запечье вываливали на берега речушек в течение года. Когда дед Тарас подкреплялся салом, запивая его самоплясом из большой алюминиевой кружки, к нему на моторке подъехали спасатели – крупные, бравые ребята в оранжевых жилетах с железными мышцами и крепкими лбами. Среди них был и житель острова – корреспондент «Окопной правды» Везувий Отрыжкин. Спасатели предложили Хлещиборщу отправится с ними на «большую землю». На что старик ответил: «Я здеся, як капитан на мостике моряцкого пароходу. Обзор у меня гарный, да и Фею свою подругу ни за шо не покину…» Везувий Отрыжкин с диктофоном и фотоаппаратом высадился к Тарасу на крышу сарая. Корреспондент делал обширный, с иллюстрациями-фотографиями, материал о весеннем паводке. «Оранжевых ребят» он попросил заехать за ним через час-другой. Минут пять спустя к Тарасу и Везувию присоединился Санька Чайник. У него был сверхнюх на все, что «горит». Свою старенькую, утлую, латаную-перелатаную лодчонку-корыто он привязал к сараю. – …Вот ты, Отрыжкин, если б держал морковку по ветру, то себя б не обделал и давно бы уже в редакторах ходил. А то тебя порой заносит и тебя, шельму щелкоперистую, в собственное дерьмо носом тычут и роста карьерного, следовательно, нет… – учил жизни Санька Чайник Везувия. – Чайник прав. И во-о-още сидишь в своей конторе булки греешь, – поддержал Саньку Тарас. – Вона зад чугунный. Вже ширше плеч… – А как же сегодня? Я же с вами, с народом! – запротестовал Отрыжкин. – С народом он! А ты кто? Не народ? Может, ты сверхчеловек или полубог какой-нибудь? А-а-а, шельма щелкоперистая? – напирал захмелевший от Тарасового самопляса Чайник. – Цыц, хлопцы! Давайте- ка дерябнем за нашу маленькую весеннюю Венецию, – поднял кружку старик. – Давай, Тарас, за нас и за Венецию! – поднял гранчак Санька. Троица выпила, крякнула, закусила. – Гондольеры на гондолах веслами гребут, – сипло, тонко пропел Отрыжкин, умиленно глядя на плывущих в лодке по улице соседских детишек. – Сам, член-корреспондент, сочинил? – Сам! – заважничал Везувий. – Я тож могу, – прикуривая папиросу, хитро прищурился Тарас. – Вот, слухайте! Шоб жисть мне сказкой не казалась, курю я горький «Беломор»… – Хе-е! Тоже мне поэты! Я могу в рифму. – А-а, ну-у?! – Пришла шлюха Весна – любит «зелень» она! – выдохнул двустишье Чайник вместе с тяжелым перегаром. – Грубо и пошло! – скривился журналист. – Зато истинная истина! – был тверд Санька. Соседи-островитяне выпили еще, потом еще… закусывая, конечно. Везувий по-барски отстегнул крупную купюру и Санька Чайник «сганцевал» на лодке за новой порцией самопляса и закуски. Приятели просидели всю ночь на сарае. Пили, закусывали, пели хором песни, плясали, сочиняли стихи… напоили козу Фею. Утром они, припухшие, синеносые, стали показывать непристойности и кричать матерщину праздным зевакам, собравшимся на крутом берегу Сугробки. Везувий Отрыжкин высовывал длинный, мясистый язык, строил рожи и складывал дули. Санька Чайник руками изображал огромный фаллос. А Тарас Тарасович совсем ополоумел – он снимал штаны и, наклонившись, показывал всем свой тощий, бледный зад… Приятели, одним словом, покарнавалили… Через трое суток вода ушла – вернулась в русло реки. Островитяне зажили обычной жизнью. Чудо в перьях (40) Из курятника вышло нечто маленькое, худенькое и суетливое – похожее на общипанного цыпленка с яйцевидной головой и большими круглыми глазами. Оно в нерешительности потопталось у домика Воскресенья Ветрова, приблизилось к двери и робко постучалось. – Входите! Дверь открыта! – послышалось из домика с окном в небо. Существо вытерло старательно ножки о кота, развалившегося на половике. Тот, с ленцою, чуть приоткрыл один глаз и снова задремал, пригретый солнышком. – Здравствуй, Чудак-человек! – поприветствовал гость Ветрова седьмого. – Здравствуй, Чудо в перьях! Присаживайся в кресло. Чудо в перьях, оно же – домовой курятника Воскресенья, поерзало, удобно устраиваясь в кресле, почухало пучок рыжих спутанных волос на голове и тонким голоском петушка-подростка, изрекло: – Хорошо тебе, Чудак-человек! У тебя из окна вид на небо, а у меня из оконца видна лишь большая соседская навозная куча. Ты наблюдаешь за движением облаков, видишь днем синее небо и золотое солнце, а ночью – серебро звезд. – А ты, Чудо в перьях, поэт! – Есть немного. С кем поведешься, того и наберешься. – Ты о курах? – Нет, я о тебе, Чудак-человек. – Я тебе на твои жалобы о виде из окна отвечу маленькой собственной притчей. – Отвечай, Чудак-человек, – домовой курятника вытащил из волос на голове куриное перышко и, с кислым, недовольным видом его разглядывая, стал ждать истории Воскресенья. – Жили-были два брата. Один был оптимист, а другой – пессимист. Оптимист жил у кладбища. Окна его жилья выходили на последнее пристанище людей. Он радовался покою погоста, его бессуетности, пению птиц, цветам, что росли на могилах умерших. Смерть людей отчасти давала жизнь цветам, травам, деревьям кладбища. Он, оптимист, видел в этом высший смысл и радовался. Другой брат – пессимист жил рядом с детсадом. Он часто видел из окна на детской площадке резвящихся, беззаботных карапузов. Он из-за мрачного своего мироощущения, представлял детишек уже дряхлыми, беззубыми и безволосыми стариками и старухами. Во всем он видел знаки смерти, тлена, конца… Скажи теперь. Кто из этих братьев прав? Может, из них кто-то болен? – Не знаю, Чудак-человек. И там крайность и там ненормальность… А почему ты не работаешь в какой-нибудь важной конторе? Ты же умный, Чудак-человек! А то сторож?! Плюс огород и случайные заработки… – Лучше кланяться земле, выращивая картошку с огурцами, чем какому-нибудь начальнику-самодуру. – Ну, хорошо. А почему ты мало общаешься с себе подобными, с людьми? Живешь уединенно, скрытно, замкнуто. Почему? – Почемучка ты, Чудо в перьях. Отвечу притчей. Жили-были две деревни. Между ними широкая и глубокая река. В одной деревне – пьянство, блуд, воровство, поножовщина. В другой – благополучие, порядок, достаток и чистота. Сделала благополучная деревня мост через реку. Соединилась им, мостом, с непутевой деревней. Началось общение деревень. Дурной пример более заразителен, чем хороший, и люди в доброй деревне, большей частью молодые, кинулись в пьянство, блуд, воровство и безделье. В когда-то благополучной деревне наступил хаос. Она пришла в упадок… На улице стало смеркаться. В потолочное окно заглянула приплюснутая, овальная луна. Словно хмурые, сердитые тучи, что паслись рядом с ней на сумрачном небе, обидели ночное светило, примяли ему бледно-голубые бока. Чудо в перьях сладко зевнуло в пол лица и обронило: – Мне пора, Чудак-человек, на боковую, спать. Я же встаю вместе с петухом курятника… – Держи! – Воскресенье протянул гостю новую расческу. – Чтоб перьев на голове не было. – Благодарю, – домовой курятника взял подарок. – Но я перестану быть «Чудом в перьях». Буду просто «Чудом»! – Разве быть «Просто чудом» плохо? – Хорошо, даже замечательно. Я хочу тебе сделать тоже подарок. Если ты рябую курицу – она у тебя одна такая, особенная, – будешь кормить и поить отдельно, тем, чем я тебе скажу, то она, Чудак-Человек, начнет нести золотые яйца. Ты понимаешь, о чем я говорю? – спросил гость, увидев недовольное лицо хозяина. – Понимаю, но мне этого не надо. – Чудак-человек, ты же станешь богат, очень богат… – Благодарю, Чудо в перьях, не надо. – Почему? – Почемучка, чем богаче человек, тем неспокойнее и суетливее у него жизнь. У него появляется больше врагов, завистников, недоброжелателей. Его начинают, как правило, обуревать страх, зависть и злость. А они разрушают человека, превращают его жизнь в кромешный ад. Я не хочу менять, пока во всяком случае, что-то в своей жизни. Она же, к счастью или несчастью, пишется всеми нами начисто, без черновиков… – Ну-у, ты, Ветров, все-таки подумай. Ты мне как-то говорил, что мысль, решение созревают, порой, медленно, словно плод. Это в математике, кстати, тоже твои слова, два плюс два – равно четыре, а в жизни – приблизительно «четыре». Может быть и «три», и «пять»… – Утомил, Чудо в перьях. Иди спать. Спокойной ночи! – Спокойной ночи. Чудак!.. Бегство (41) Медведица – мать братьев Ветровых – стала замечать, что ее шестой сын – Суббота много времени проводит у реки. Приходит часто поздно и не в себе, хоть и не пьяный. Как рассказала Любови Ивановне Клавдия –соседка и крестная братьев, – Суббота прошедшей зимой вырубил во льду Сугробки прорубь. Он в нем не купался, не рыбачил, а просто сидел рядом и тихо играл на губной гармошке или разговаривал сам с собою. Осенью 1999 года Суббота сообщил матери, что уходит контрактником на кавказскую войну. Как его Медведица только ни отговаривала, все бестолку. Приводила в пример Пятницу. Мол, тот вернулся контуженным и для нормальной человеческой жизни уже непригоден, выпал из нее: ни семьи, ни работы, пьянство и сумасшествие… Через несколько месяцев Суббота вернулся из Чечни инвалидом. Ему оторвало миной кисть правой руки. Заглянув в гости к Воскресенью, он много молчал, отвечал односложно: «да», «нет». Уходя, обронил: – Хотел убежать от себя. Не убежал. Судьба наказала меня, покалечив руку. Был рожден для гитары, а взял «калаш». Так мне и надо!.. Пятница и Нефертити (42) У Ветрова пятого раскалывалась, гудела, словно пчелиный улей, голова после вечерней, переросшей в ночную, пьянки. Он пробудился ближе к полудню, жадно выпил с литр огуречного рассола и, пошатываясь, вышел покурить на крыльцо. Глядя узкими, с припухшими веками, глазами на дальний, противоположный берег Сугробки, увидел не то девушку, не то молодую, с аккуратной фигуркой, женщину. Она, кокетливо пританцовывая и капризно отведя в сторону ручки, спускалась по ступенькам к домику на обрывистом берегу. «Похожа на Нефертити, – отметил Пятница. – Тыщу лет я у нее не был. Может сегодня навестить? Может, нальет чего-нибудь?» Ветров с горем пополам побрился. Дрожали руки и он порезал лицо и шею в нескольких местах. Чтоб не бежала кровь, залепил ранки клочками газеты, смоченными слюной. Оседлав скрипучий, ржавый велосипед, мужчина отправился к матери своего ребенка. У подъезда дома Нефертити сидел здоровенный, заплывший жиром мужик. Он даже в спокойном, неподвижном состоянии тяжело, шумно дышал. Хмурый, помятый. Пятница, слезая с велосипеда, подумал: «Если этот боров умрет, то потребуется гроб размером с трехстворчатый шкаф… Фу-у! Какие мне поганые мысли в голову лезут. Надо подлечиться – похмелиться…» Ветров пятый левой рукой сорвал у подъезда белесый, наполовину «облысевший», одуванчик и, взвалив велосипед на плечо, стал подниматься на третий этаж. – Мой цветок тянется к твоему солнышку, – протянул Пятница Нефертити полностью «лысый» одуванчик. – Какая у тебя любовь, такой и цветок, – она попыталась захлопнуть дверь, но Ветров успел просунуть в щель между закрывающейся дверью и косяком – переднее колесо велосипеда. Они сидела на кухне. На столе стояла бутылка из под пива с самогоном, заткнутая пробкой из свернутой газеты. Спиртное, после долгих уговоров Пятницы, купила у соседки Нефертити. – Может, выпьешь со мною? – Нет! Тебя надо лечить, серьезно лечить! Ты только обещаешь бросить пить. Ты погляди на себя в зеркало. Тебе нет еще тридцати, а ты уже похож на старика. – Ты тоже, Тити, посмотрись. – Глупый, если женщина не любима, то в ней начинает умирать женщина. Ты раньше не был таким грубым, как сейчас. – Дар котяры мурчать и царапать! – Не ерничай! – женщина встала с табуретки и открыла форточку. – Ну и запашок, чтоб ни сказать вонь, от тебя, Пятница! – Ну и че. От мужчины, от ковбоя должно нести табаком, самоплясом и вонючими носками. – То есть козлом! – Где-то рядом. Мужики – козлы, как говорит моя крестная тетя Клава. Я же кумекаю, что если от него, мужика, прет дезиком, выбриты подмышки, «там» прическа и поглажены шнурки, то это в букете отдает голубизной… Ветров пятый, после выпитой бутылки, несколько минут что-то неразборчивое бурчал себе под нос, а потом, уронив голову на плечо, засопел. Из уголка его рта потекла слюна. Нефертити попыталась его разбудить, растолкать, но безуспешно. Просидев с отключившимся мужчиной до полуночи, она, так и не приведя его в чувство, отправилась спать. Под утро женщину напугал звон бьющейся посуды. Вбежав в кухню, она увидела Пятницу, пытающегося проглотить зеленый шарик небольшого колючего кактуса. Куски разбитого горшка из под цветка вместе с землею валялись на полу. – Ты, что совсем чокнулся?! – Вот выпил, – он указал рукой на пустые флаконы из под туалетной воды, – а закуси не нашел. Ем что-то похожее на огурцы, только колются… – Это же кактусы! – Ничего так. Только бы побрить их. – Ты совсем дегенератом стал. Нашел, что есть и пить. Это же дорогая туалетная вода! – Тебе, насекомому, не понять, как ломает, корежит после бодуна. Копыта можно отбросить. А ты, Титя, заладила вода – вода… И, вообще, вы бабы – сплошная головная боль! Капризы, фокусы, глупости… На вас надо прорву денег. Лучше козу завести, как хохол Тарас Тарасович Хлещиборщ. И молоко, и… – Вон отсюда, дегенерат. Уходи или я милицию вызову! – Не надо. Я сам был ментом. Где мой железный конь? – Ветров пятый, пошатываясь с велосипедом на плече, вышел из квартиры Нефертити. – Ты даже про сына не спросил. Только о пойле думаешь! – с мокрыми от слез глазами, высказала обиду женщина. – Извини, мать, забыл. Наверное, все поэты с загогуленкою дети, – не к месту зарифмовал Пятница. Женщина, хлопнув, закрыла входную дверь. Странные странники (43) Глухой, туманной осенней ночью Тараса Тарасовича Хлещиборща разбудил стук в ворота и шум голосов, доносящихся из неуютной темени улицы. Наскоро одевшись, обув правую галошу на левую ногу, а левую – на правую, бурча ругательства, старик поковылял выяснить, кто к нему ломится, кто незваный гость или гости. Отворив со стоном-скрипом ржавую металлическую калитку, старый бобыль направил свет фонарика за пределы своего владения и увидел четырех странно одетых мужчин и одну, еще более странную и нелепую, женщину. – Хтось будете? – перебарывая свой страх, сурово спросил Тарас Тарасович. От компании отделился мужичок. Он, поблескивая, в свете фонарика, крепкой, шишкастой, с медным отливом, лысиной, стеклами очков и золотистой фиксой, вкрадчивым, бархатным голосом представился: – Мы, отец, странники. Я Учитель, а это мои ученики и подруга по скитаниям и мытарствам – Маничка Величкина. – Штось хотите из под меня? – непреклонно и холодно, с легкой дрожью в коленях, поинтересовался недовольный Хлещиборщ. – Отец, прими нас на ночлег, – Учитель щелкнул пальцами, словно подзывая официанта. Один из учеников отвернул полу клетчатого пиджака и обнажил два полных полуторалитровых пластмассовых баллона с какой-то мутной жидкостью. Другой ученик показал увесистый пакет и коротко сказав: «Еда!» – Наши разносолы и веселящий сердце напиток. Твои, хозяин, жилье и постель. Старик при виде самопляса оживился, засуетился. По-русски широким жестом пригласил ночных визитеров в дом. Они, оживленно разговаривая, уселись трапезничать. «Клетчатый пиджак» – он же Пускатель ветров с шумом высыпал из пакета на центр стола съестное. Здесь были и кусочки колбасы, и разномастные конфеты с печеньем, булочки, куски черного и белого хлеба, несколько огурцов и морковок, полугнилые яблоки и апельсин, прочие вкусности. Разлив самопляс в чайные чашки из тарасовского сервиза не шесть персон, Учитель сказал небольшую речь. – Давайте, россияне-марсиане, познакомимся. Я – Учитель! Это моя жена – подруга – любовница – сестра – мать и дочь Манечка Величкина, – женщина кокетливо поправила на голове мятую шляпку с пером неизвестной птицы и хохотнула: – Это мои ученики: Пускатель ветров, Потрошитель подушек и Гроза больших и малых пауков! А вы кто будете, хлебосольный хозяин сего добросердечного к нам дома? – Я. Кхе-кхе, – закашлялся от волнения старик, – Я, кхе-кхе, Тарас Тарасович Хлещиборщ, – помолчав, добавил. – Пенсионер. – Давайте, россияне-марсиане, выпьем по чашке философской жидкости за прекраснейшего гомосапиенса Тараса Тарасовича Хлещиборща, пенсионера! Раздался звон сдвинутых над столом чашек. Буль-буль-буль. Ах-ох-ух! Манечка Величкина, оттопырив в сторону мизинец, малыми глотками, словно чай, выпила веселящую, располагающую к философии влагу, крякнула, достала, откуда-то из складок ядовито-зеленой искусственной шубы, огромную, размером с оладушек лупу и стала через нее разглядывать съестное на столе, как бы говоря всем своим видом, телодвижениями: «Чтобы положить этакое в свой капризный, высокомерный ротик?!» – Откудова будете, хлопцы? – выпив и закусив, спросил хозяин дома. – Мы, отец, из Губернска идем. Странствуем. Живем милостыней. Сегодня на вашем сугробовском базаре подаяния просили. Сугробовцы – нежно-сердечные люди – не скупились. Вот так-то вот, Тарас Тарасович. – К нам надолго? – Будет видно… Мы устали, отец. Может, уложишь нас спать? День трудный выдался. – Добро, добродии, покладу вас спать. … Остаток ночи Тарас Тарасович не сомкнул глаз, ворочался с боку на бок, со спины на живот и обратно. Мешали вздремнуть странники. Учитель во сне постоянно к кому-то обращался: «Россияне-марсиане!!!» Потрошитель подушек, с зубовным скрежетом, кусал и мял ручищами подушку. Гроза больших и малых пауков – истерично выкрикивал: «Выходи на бой кровавый!» Пускатель ветров громко пукал, так что дребезжали стекла в окнах и ходили волной занавески. А Манечка Величкина, на удивление, громко, раскатисто, словно генерал артиллерии, храпела… В двух словах – «Варфоломеевская» ночь! Последователь Диогена (44) Утром ученики отправились к сугробовскому собору, что у базарной площади, просить милостыню. Учитель с Манечкой и Тарасом Тарасовичем собрали с пола перья. (Они высыпались из подушки, на которой спал Потрошитель подушек), Открыв форточки, освежили дом от «сквозняков» Пускателя ветров и уселись пить чай с остатками еды от ночной трапезы. – Вот ты, хлопец, называешь себя Учителем. А в чем твое учение? – О Диогене, что-нибудь слышал, отец? – О каком еще Гене? – Ни Гена, а Диоген! Был в древней Греции такой философ. Он жил в бочке из под вина. Просил милостыню. Никого и ничего не боялся. О чем думал, о том и говорил. Красиво, отец, он думал, красиво и точно высказывался. Так вот я - Учитель, считаю себя его последователем. – В бочке то зимой, небось, холодно?! – В Греции тепло и зимой. Да, и одежда у него кое-какая была, надо полагать. – А шо он сказав или зробив такого интересного? – Раз как-то приехал посмотреть на философа великий муж и полководец Александр Македонский. Встал он со своей свитой у бочки Диогена и разглядывает чудака и мудреца, греющегося на солнышке. Диоген интересуется: «Кто будешь?» Полководец отвечает: «Александр Македонский!» Философ прищурил один глаз и попросил сильного мира сего: «Отойди в сторону, любезнейший. Ты мне закрываешь солнце!» Завоеватель полумира восхитился: «Если бы не был Александром Македонским, то стал бы Диогеном!!!» – И в правду интересный фрукт был этот твой Диген. – Диоген! Но я - Учитель, пошел дальше грека. Я не поклоняюсь, как он, богам, языческим богам. Я раскрыт для высшего разума, высших сил… Я раскрыт для Космоса. Богов, идолов придумали людишки, темные людишки, жаждущие веры, слепого, рабского поклонения. Я распахнут для стихий – земных и космических. Солнце! Луна! Земля! Звезды! Дожди и Ветры! – поблескивая лысиной, стеклами очков и золотистым зубом, вошел в раж гость Хлещиборща. Когда он, выпустив пар, остыл и умолк, Манечка Величкина цветастым платочком старательно и подобострастно стерла горячую испарину с покрасневшей лысины оратора, сняла белую нитку, прицепившуюся к одежде друга – любовника – отца – сына. – Какой орел! А-а-а! – восхищенно воскликнула она и смахнула рукой слезинку, слезинку умиления, что засверкала жемчужиной в уголке глаза. После сытного завтрака и философских бесед Учитель с Манечкой, взявшись за руки, решили прогуляться по острову, подышать свежим воздухом. Проходя около бабулек, сидящих на бревнышке и обсуждающих общемировые, сугробские и островные проблемы и события, Учитель их поприветствовал: – Здравствуйте, россияне-марсиане! При этом распахнул свое оранжевое женское пальто с искусственным воротником «под леопарда». Пальто было надето на голое тело, поэтому старушки успели увидеть пупушку и зелёный галстук незнакомца. Сплетницы на минуту потеряли дар речи. Когда Учитель со своей спутницей удалились от их бревнышка на шагов этак тридцать, они злобно заверещали: – Бесстыдник! – Срамник! – Индиёт! Они еще долго были похожи на кудахтающих, потревоженных на шесте кур. Одна из бабулек пожаловалась Хлещиборщу на странную парочку, на бесстыдство гостя. – Шо ж это ты, Учитель, жинок в краску вводишь?! – То, что я сделал – мелочь по сравнению с тем, что выкидывал Диоген. – И шо ж он таке робыв не потребнэ? – Он мог днем ходить с зажженным фонарем, подвешенным к голой заднице и, при этом, кричать: «Ищу человека!» – Да-а-уж! Ну и фрукт был этот Диген! – Диоген. Что ж касается островных хрычовок, так людишки и у ангела найдут рога с копытами. Вот так-то вот, Тарас Тарасович… Среда (45) Ветров третий выкурил «косячок» – папиросу, набитую «травкой», удобно развалился в огромном кожаном кресле, небрежно закинув ноги в обуви на маленький журнальный столик. Среда философствовал: «Есть люди тела, а есть люди духа. Первых – тьма тьмущая. Вторых – единицы. У первых все для тела. Вся жизнь посвящена телу: еда, напитки, одежда, секс, физические удовольствия, – тихо говорил бандит, прикрыв глаза – Вторые – аскеты. Во главе у них душа, дух. Ради души жертвуют телом. А-а, низя! Ведь тело – дом души. Нет. Тело – футляр для души, тесный футляр. Хорошо, когда золотая середина. Фифти-фифти. Когда плоть и дух в мире… В маленькой уютной комнатке без окон никого, кроме Ветрова, не было. Дверь намертво закрыта изнутри на несколько мощных засовов. Сегодня – день, месяц и год, в который сугробовский пахан – смотрящий Среда Иванович должен умереть. Так начертал Фатум при рождении Ветрова третьего, обозначив его земной путь малозаметной татуировкой на груди, где дата рождения и дата смерти. – Человек умирает. Его тело придают земле. В ней мрак и холод. Душа покидает тело – свой дом, футляр – и поднимается в небеса, в космос. А там тоже мрак и холод, – бандит, поежился – везде мрак и холод… В дверь комнаты тихо, робко постучались. – Кто там? – вздрогнул он. – Это я, милый, Рая. Арбуз будешь есть? Холодный, сладкий и сочный… – Сейчас открою. – Ветров нехотя, вяло встал, щелкнул засовами на бронированной двери. Вместе с женой и арбузом в комнату ворвалась оса. Она пьяно кружилась над большими ломтями ягодного лакомства. – Арбузная мякоть похожа на сырое, полное крови мясо. – Фу-у! Что-то ты, Ветров, сегодня целый день сравниваешь, проводишь параллели, мрачно философствуешь. – Раньше некогда было. Дела, делишки, разборки, стрелки, возня… ни вздохнуть, ни пукнуть. – Опять, фу-у-у! Все-таки ненормальный ты у меня. – Норма, милая, признак посредственности, – подняв на кончике ножа алый кусок арбуза, хмуро изрек Среда. – Я сейчас чем-то похож на раненого или заболевшего зверя. Он, зверь не участвует ни в охоте, ни в свадьбах… Он уединился и зализывает свои раны, ест заветные лечебные травы… – Ну ты, милый, допустим травы-травки не ешь, а куришь! Ветров бросил тяжелый взгляд из подлобья на жену и холодно попросил оставить его одного. Она молча, обиженно покусывая губы, вышла вон. Он закрыл на все засовы стальную дверь. Приблизительно через час женщина услышала хрипы, рычание, похожее на звериное, идущее из кабинета мужа. Паночкина-Ветрова била в дверь руками и ногами, разбивая их в кровь, царапая металл, ломала ногти, кричала чужим голосом, но муж не открывал. Что-то за дверью падало, разбивалось. Через несколько минут наступила пронзительная тишина… Говнилыч (46) «Би-би всё в дуду! Уезжаю в Москву, разгонять тоску! Марья». Такую записку нашел на столе отец троих детей, владелец большого хозяйства (два десятка поросят, три коровы, более сотни голов домашней птицы, сто соток земли), трудоголик Вторник Иванович Ветров. Правда, жена немного облегчила жизнь Ветрову второму тем, что отдала детей своей матери, пообещав той ежемесячно высылать деньги. Так бы Вторник, при всей своей семижильности, не выдержав нагрузки, загнулся бы. Марья Ветрова, в девичестве Перинова, не вынесла непосильного каторжного труда. Подъем с первыми петухами, отбой – за полночь. Работа – работа – работа до седьмого пота: кормление скотины и птицы, уборка коровника, свинарника и птичников – центнеры дерьма перетаскай ка, возделывание земли, теплицы, торговля на рынке… Еще мужа с детишками накорми, обстирай, уберись в доме, а после всего, когда каждая клеточка болит и саднит от трудов, спать, жуть, как хочется – глаза слипаются, склеиваются, выполняй супружеский долг со счастливой улыбкой и томными вздохами… «Нет-нет-нет! И еще раз «нет!» Я же не рабыня какая-нибудь? В Москву – разгонять тоску! Да-а! В Москву…» - нашёптывал внутренний голос Слонихи-Периновой-Ветровой и она, наконец-то, созрела – собрала более-менее нарядные и свежие вещички и рванула в столицу. Пожалуй, достаточно о Марье. Расскажу немного и о Вторнике. Начну с того, что в округе его прозвали «Говнилычем», и было за что. У Ветрова второго, например, в огороде стояло три туалета. Два полных г…, третий – на подходе. Он не сносил будки, не засыпал землей ямы полные фекалий. Когда у него спрашивали о торчащих в огороде, этакими фаллосами, уборных, он в ответ чесал затылок, пожимал плечами, мычал. Свою землю Вторник обильно, очень обильно, удобрял навозом. Все родилось крупное, красивое – картошка с голову младенца, – но отдавало, припахивало говницом. Редким своим помощникам, в знак благодарности, наливал всякую гадость. Если ни жидкость для размораживая замков, то средство для мойки стекол. Сии «благородные» напитки намного дешевле водки и желудок с мозгами выворачивают на изнанку. Закуску никому и никогда, после поднесенного стакана, не предлагал. На какой-то большой божественный праздник к Ветрову заглянул сосед. Посидели – выпили, закусили. Вторник подсчитал сколько у него съел и выпил гость. Сделал к соседу ответный визит вежливости – съел и выпил в пять раз больше. Он был не бедным человеком, но ходил, как оборванец, в одежде с чужого плеча, кормился картошкой с капустой, да вермишелью быстрого приготовления. Имея два десятка свиней, трех коров и много птицы – мяса, яиц и молока не потреблял. Все продавал, копил деньги. Одним словом – скупердяйничал. Правда, вру немного, по большим праздникам, он, бывало, покупал дешевые соевые сосиски, но это случалось весьма редко… Говнилыч?! – Люди редко ошибаются. Секрет созвездия (47) Любовь Ивановна Ветрова в черных платье и платке сидела в просторном, не без роскоши и помпезности, кабинете старшего сына Понедельника Ивановича. Он недавно был избран в мэры города Сугробска. – Видно, мама, от судьбы не уйдешь. Сколько раз в Среду стреляли, сколько его резали, пытались взорвать машину и прочее, а он выходил сухим из воды. А тут, какая то букашка, оса… И все! – Да, сынок, каждому своя уготовлена смерть, – тихо поддержала Любовь Ивановна. – Даже, мама, если бы дверь была открыта в его кабинет, все равно, врачи навряд ли бы помогли. Он задохнулся от укуса в течение минуты. Видно, не заметил осу на куске арбуза. Надо же, в язык. И, заметь, он умер в день, месяц, год, что были указаны в маленькой татуировке, появившейся при его рождении. – Да, сынок, ты прав. Ты у меня самый умный и рассудительный. – Медведица, видно, долго себя сдерживала, а тут зарыдала. – Ма-а, крепись, держись, – сын встал, обошел длинный стол, приобнял мать. – У тебя, кроме меня, еще есть Суббота и Воскресенье, наконец, Вторник и Пятница… – Пятница совсем спивается, сынок. У него часто бредовые состояния. То он криминальный авторитет, то полковник ЦРУ, то инопланетянин… – Да, тяжко! А, как Суббота с Воскресеньем поживают? Я их редко вижу. Все дела, дела. – Суббота после Чечни стал очень странным. Много времени проводит на реке. Сидит на берегу и часами играет на губной гармошке. Похудел. Бледный и малоразговорчивый. Младшенький – Воскресенье тоже живет как-то не по-людски. Ни друзей у него, ни подруги. Ночью звезды считает, днем часто спит. Звездочет, одним словом, – женщина жалко улыбнулась. – Странные вы у меня какие-то все и разные, не похожие друг на друга. – Кстати, мама, о нашем звездочете – Воскресенье. Он мне, как-то сказал, что заметил за созвездием «Большая Медведица» диковину, связанную с нами, братьями Ветровыми. Когда умер Четверг одна из звезд «ковша» сорок дней не горела, а потом снова появилась. Недавно мне звонил Воскресенье и сказал, что в «Медведице» опять не хватает одной звезды. Может это связано с уходом Среды? И все мы, так или иначе, связаны с «Большой Медведицей». – Не знаю, сынок. Для меня это слишком сложно. – Я к тому, мама, что если кто-то из нас, вдруг, пропадет без вести, то ты сможешь узнать по «Медведице», живы мы или нет… Мостик (48) По холодной, осенней воде реки Сугробки плыли желтыми корабликами палые листья вётел, берез… Стелился над водой, извиваясь большим удавом, белый туман. Тарас Тарасович Хлещиборщ тихо сидел на берегу с удочкой, время от времени позевывая и поеживаясь от утренней прохлады. Старик частенько вытягивал снасть, чтоб проверить – ни объела ли рыба червя. Послышалось какое-то бормотание, обрывки матерных слов. На другом берегу, у шаткого, в две-три доски шириной, мостика появился пьяненький, весь в репьях – видно, ночь провел в кустах, – Санька Чайник. У него был остекленевший, с самогонной мутью взгляд. Крепко, смачно и зычно выругавшись, так, что на острове сонно залаяли разбуженные собаки, он шумно затопал по мостику. Это действо походило на диковинную пляску шамана: неведомая сила его бросала из стороны в сторону, он выделывал руками и ногами нелепые, смешные и странные движения, гримасничал. На середине мостика Санька оступился и грохнулся в речку. У Тараса Тарасовича от сей картины до коликов сжалось сердце. Чайник вынырнул, фыркнул моржом и побрел (река не глубокая – по пояс) на берег, с которого начал свой переход. Пьяный сделал еще несколько попыток, но все они закончились «водными процедурами». Раз он упал у желаемого берега, но вместо того, чтоб сделать несколько шагов вперед, Санька вернулся обратно и снова, с целеустремленными, красными от злости и воды глазами, двинул по скрипучим, шатким доскам мостика. Хлещиборщ не выдержал сей трагикомедии – бросил рыболовецкие снасти и выскочил из кустов. Стал кричать горемыке, чтоб он полз по мосту на четвереньках. Так, мол, точно переберется на остров. Санька отмахивался от советов старика и все-таки, топая в полный рост, добрался до желаемого берега. Видно, многоразовые купания в холодной воде несколько отрезвили героя. Стоически дойдя до цели, он, в мокрой одежде, плюхнулся на влажную от росы траву. Устал, видимо. – Пойдем, Сашко, а то воспаление легких подхватишь, – пытался поднять на ноги парня Хлещиборщ. – Увянь, подружка! – лягался Чайник. – Шо? – Увянь, говорю! – Ты ж застудишься. И, вообще, дождь, мабудь, будет. Небо тяжелое… Санька, посапывая, молчал, раскинув на земле в разные стороны руки и ноги. Мокрая и грязная одежда Чайника, прилипнув к телу – в гусиных пупырышках – плотно его облегала. Тарас Тарасович достал из внутреннего кармана старомодного кримпленового пиджака, пол литровку самопляса и жадно глотнул для «сугрева». Немного поделился и с Санькой Чайником. Тот, икнув, поблагодарил: – Ты моя лучшая подружка! – Шо? Какая я тоби подружка, Сашко? Шо ж ты пил таке, раз мени за дивчину принимаешь?.. А ты, вообще, хлопец гарный! Настырный, упертый! Я теперь понимаю, почему русские войну выиграли. Почему германцам дали гари. Да и не только им. И французам, и туркам, и шведам… Россия – это музЫка!.. Ванька Встанька (49) – Ванька умер! А-а-а! – истерично кричала в телефонную трубку Жанна Нетужилкина. – Погиб при исполнении… А-а-а! – слышались всхлипы и хрипы. Вторник, слушая вопли подруги жены, насупившись, тупо молчал. Выговорившись и чуток успокоившись, Жанна раскатисто высморкалась на другом конце провода и сказала сиплым, сорванным голосом: – Приходи! Помоги мне с похоронами! – М-м-м, – промычал Ветров и добавил. – Щас поросят покормлю и приеду на велосипеде. – Когда приедешь? – М-м-м. Через час, полтора. – Хорошо! Жду! – в трубке раздались короткие гудки. Они вдвоем сидели за столом, уставленным закуской и выпивкой. В центре стояла коробка из под обуви с покойником – Ванькой Встанькой. Коробка, как вы догадались, читатель, исполняла роль гроба, точнее гробика. Выпив самопляса, вдова плачущим голосом рассказала о гибели своего друга – мужа – любовника… – У нас была сказочная ночь любви! А-а-а, было так хорошо!.. В порыве дикой страсти, я его, а-а-а, засунула слишком далеко, а-а-а, и он, моя радость, задохнулся. Когда я Ваньку вытащила, он уже был вялым, обмякшим, не дышал, а-а-а, – женщина не находила места для своих рук, то запускала дрожащие пальцы в белые, крашеные локоны, то засовывала их между коленок… – Цыц, баба! – ударил кулаком по столу Вторник. – Все мужики из-за вас, бабьего племени, гибнут. Даже поэт Пушкин! – Ша-а! Ты еще Наполеона вспомни. – Цыц! – Ша-а! – Цыц! – Ша-а! Вторник Иванович, помоги надгробие сделать! – Из чего? – Из бревна. Я тебе нарисую, что я хочу. Вечерело. Мужчина и женщина стояли в огороде у небольшого свеженасыпанного земляного холмика. Надгробием был столбик, формой напоминающий огурец, с табличкой, на которой Жанна, любящей рукой, вывела следующее: «Ванька Встанька. Героически погиб при исполнении супружеского долга. Помню. Скорблю. Ж.Н.». Ночью из спальни веселой вдовы раздавались томные вздохи и охи. Вторник Ветров успокаивал женщину, потерявшую друга – мужа – любовника… Бессонница (50) Воскресенья Ветрова второй день мучила сильнейшая апатия. Он ничего не мог делать: ни готовил еды, ни убирался, ни выходил на улицу. Лежал на кровати и глядел в окно на небо, много курил. «… В детстве белые облака были похожи на огромные куски сахарной ваты… Весна пахла конфетами…» – обрывками мелькали в голове Ветрова седьмого мысли о детстве, юности, взрослой жизни. Ночью он так и не сомкнул глаз. От полной луны – светло, словно от многоваттного прожектора. Ровно в полночь Ветров увидел как над ним, над домом пролетела какая-то энергичная, разухабистая бабенка, только не на метле – средстве передвижения ведьм, а на пылесосе. Она сделала несколько стремительных кругов над островом и, хрипло смеясь, направилась к Плешивой горе. «… В полнолуние на укромной лесной поляне Плешихи собираются ведьмы со всей округи. Устраивают шабаш – дикие пляски вокруг огня, винопитие, блуд…» – подумалось младшему Ветрову. Ранним, туманным утром, пахнущем тленом палой листвы, Воскресенье разглядел в небе малиновое облако, похожее на голову гиганта. В голове обозначились колючие пристальные глаза и большой высокомерный рот. Голова-облако, глядя сверху на мечтателя-чудака, словно на букашку, глухим голосом сказала: – Когда зеленый конь забьет копытом по белому в красное яблоко, ты, смешной человек, узнаешь земную любовь во всех ее проявлениях. Кончится твое тягостное, затянувшееся одиночество!.. Но тут дунул сильный, напористый ветер. Он грубо скомкал голову-облако и понес ее на север. Небо прояснилось. «… Я два дня ничего не ел, две ночи не спал. Может, у меня зрительные и слуховые галлюцинации? – подумалось Ветрову седьмому. – А если это не обман? Если явь, правда?.. Я так устал от одиночества…» 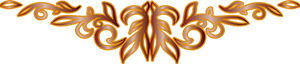 |
|
Категория: Проза › МВ | Просмотров: 995 | Дата: 20.12.2017 | |
| Всего комментариев: 0 | |

