
Зеленый конь на белом снегу. Часть-4 |

Ученики (51) Падал первый робкий снег. Он ложился крупными, тяжелыми и влажными хлопьями на еще не остывшую землю и таял – таял – таял. Странники загостились у Тараса Тарасовича. Они у него жили уже более месяца и, видно, глядя на «стекленеющие» ночами хрупким льдом лужи, на приближающиеся морозы никуда не собирались. Зима! Холодная зима впереди! Ученики ходили на базарную площадь просить милостыню. Учитель вел барский образ жизни: много спал и ел, иногда бурно философствовал, словно выступал на битком набитом слушателями стадионе. К странной компании присоединились Дуся-радио – островная дурочка, Санька Чайник и Пятница Ветров. Мужиков прельстили ночные вакханалии с обилием выпивки и закуси. Они часто оставались ночевать у Тараса Тарасовича. Бывало, жили по-несколько суток кряду, не показываясь у себя дома. Дусе-радио нравился Пускатель ветров. Он ей тоже выказывал симпатию. Как-то они сидели под яблоней в саду Хлещиборща. На верхушке дерева висело несколько яблок. Дусе захотелось сладенького. Ее дружок потряс дерево руками, несколько раз пнул ногой, но, увы, свалился самый маленький, червивый плод. Чтоб не упасть перед подружкой в глазах, мол, не может выполнить прихоть, каприз дамы сердца, он нагнулся и раскатисто «пустил ветра» в сторону верхушки яблони. Все плоды попадали, закружилась в воздухе сорванная листва. Дуся, тонко пища от восторга: «Красота-то какая!» – захлопала в ладошки. После сего подвига Пускателя ветров, влюбленная парочка стала уединяться и миловаться. Случился небольшой казус с Потрошителем подушек. Соседка Тараса Тарасовича выставила на крыльцо для проветривания полдюжины пуховых подушек. Их заметил, идущий с базара, Потрошитель. Бросив наземь авоську, полную милостыни, он скинул с себя верхнюю одежду и, не обращая никакого внимания на злющего пса, резво перемахнул через высокий забор. Стал рвать зубами и ногтями, словно Тузик грелку, толстые, молчаливые и флегматичные подушки. Досталось и ватному матрасу, что покоился рядом на заборе… Долго потом по острову летал пух вперемежку со снежинками. После сего ЧП Тарас Тарасович не раз извинился перед соседкой и отдал ей, в знак компенсации, все свои, порванные гостем, но еще полные пера, подушки. Гроза больших и малых пауков имел свои странности. Пока было тепло и водились пауки, он их, несчастных, гонял по всему острову. Когда же похолодало и насекомые попрятались в щели, он загрустил, потерял интерес к жизни. Оживал он малость, когда выпивал. У Грозы появлялся звериный блеск в глазах. Размахивая руками и топая ногами, брызгая слюной, он скомкано рассказывал о своих победах над большими и малыми врагами-пауками… Дуся-радио (52) Дусю прозвали «Радио» за новости и несусветные сплетни, которые она очень быстро разносила по острову. Братья Ветровы, будучи еще юношами, как-то работали с песком и цементом – что-то строили. Среда с Пятницей возили с речки песок. – Для чего песок? – спросила Дуся. – Мы из обычного речного песка делаем сахар-песок. У нас есть специальная для этого машина. Слышишь гудит?! – ответил шутя, Среда, указав в сторону бетономешалки. Потом, целую неделю Медведицу островные старушки «с бревнышка» донимали вопросами о сахарном цехе, что строится в огороде Ветровых. Дуся-радио слыла непомерно прожорливой. Родные прятали от нее съестные запасы. Она ела все, что ей попадалось на глаза: от гнилых помидоров, выбрасываемых торгашами на рынке, до сырой картошки в домашнем погребе. Она часто прогуливалась по запеченскому кладбищу. Если кого-то хоронили, Дуся увязывалась за скорбящей процессией и шла на поминки. Кто-то охотно ходит на именины и свадьбы, она же была любительницей поминок. Нередко она делала визиты к крупным сугробовским чиновникам, выпрашивая деньги на мороженое. Одни из них гнали незадачливую, другие – отдавали мелочь. Долгое время больная женщина «доила» Адольфа Наполеоновича Македонского. Когда ему секретарша докладывала о приходе Дуси-радио, он с кислой миной рылся в бумажнике и высыпал в ладонь просящей пять рублей мелочью. Когда же Македонского на посту мэра сменил Понедельник Иванович Ветров, Дуся стала клянчить по десять рублей, ссылаясь на то, что мороженое, жуть как, подорожало. Раз между бывшими соседями по острову состоялся следующий разговор: – Дуся, зачем тебе так много на мороженое? – поинтересовался Ветров. – Как сказал Санька Чайник: «Я на жизнь гляжу в зеленые очки, а не в розовые. В зеленые, ибо доллары зеленые…» – бросив замысловатую фразу, Дуся-радио пустилась в пляс прямо в кабинете главы города. – Правда, Понедельник, я в этом сарафане похожа на бабочку, – закончив кружится, спросила она. Ветров старший ухмыльнулся, гася на своем лице улыбку. – Да, похожа! Только на моль! – Почему? – Ты, Дуся, мне своими новыми нарядами и мороженым скоро плешь проешь… – Фи-и, какой ты грубый! Нет, чтоб девушке комплимент сказать… – На, Дуся, двадцать рублей и иди на базар есть мороженое, а мне, попрыгунья стрекоза, надо работать… На Плешивой горе (53) На вершине Плешивой горы, укутанной дымкой падающего снега, стояла кучка людей. Что их туда загнало в лютый крещенский мороз – мы сейчас узнаем. – … Дай мне, Некто, сил, терпения и времени выполнить задуманное здесь, на бренной и грешной земле, – ораторствовал Учитель, задрав одну руку вверх, на манер Ульянова-Ленина, другой же рукой придерживая подмышкой дырявый, деформированный эмалированный таз. – Красота-то какая! – воскликнула Дуся-радио и бурно захлопала в ладоши. Ее поддержали ученики последователя Диогена и Санька Чайник с Пятницей. У приятелей были пурпурные отечные лица и синеватые носы – они неделю не просыхая пили в компании странников. – Россияне-марсиане, Диоген не умер. Нет! Он жил, жив и будет жить в веках, так же, как я, его последователь и великий Учитель. Манечка Величкина хлюпала покрасневшим носом и смахивала с глаз слезинки огромным, размером с полотенце, платком. – … Якобы, умершего Диогена заколачивают в бочку, в которой он жил и мудрил, и бросают в теплое и чистое Средиземное море, – продолжал Учитель. – Бочку подхватила огромная, белопенная волна и выбросила, точнее, метнула в синее-синее греческое небо. – Да-да-да! Диоген не умер. Он улетел в бочке, как космонавт в ракете, в великий, необъятный Космос. Да-да-да, Космос! Ура-а-а!.. – Ура-а-а! – подхватили остальные. – Красота-то какая! – Тс-с-с! – Учитель прижал указательный палец к губам, успокаивая своих слушателей. – Т-с-с-с! А-а, теперь, братья мои, совершим акт единения. Все спустимся с этой прекрасной горы в тазах! – оратор начал бить по тазу, словно шаман в бубен. Вся компания, подхватив ритм, стала стучать по своим тазам. Поднялся невыносимый грохот. Он, пожалуй, был помощнее колокольного звона сугробовского собора. – Россияне-марсиане, станем же вольным братством!.. Первым покатился с горы, оседлав таз, Пускатель ветров. За ним все остальные. Учитель замешкался на вершине и, наверное, правильно сделал. Так как к подножию плешихи подъехал наряд милиции. Стал грубо хватать и пинать нарушителей тишины и порядка, засовывать в машину. – Иди к нам, приятель! – поманил пальцем Учителя старший сержант милиции, стоя внизу. – Не-а! Мне и здесь хорошо! Тут стражи порядка увидели, как к зачинщику буйства приблизился какой-то рыжий горбун. Он ласково приобнял последователя древнегреческого философа и громко, раскатисто, словно гром небесный, прокричал: «Новый век! Новое тысячелетие! Ждите новых войн и новой крови! – Ждите перемен! – сипло поддакнул незнакомцу Учитель. – Это же призрак Рыжего клоуна! – не на шутку перетрухал старший сержант. Повернулся лицом к серебрящимся вдалеке куполам собора и стал суетливо креститься и кланяться. Как потом рассказала Дуся-радио, Учитель с учениками сбежали с губернского психиатрического интерната. В нем они постоянно жили и лечились. Видно, последователю Диогена и его друзьям надоела спокойная, размеренная и скучная жизнь заведения и они пустились в странствие. Чем их одиссея закончилась вы, дорогой читатель, уже знаете. Учителя поймали несколько дней спустя на городской площади. Он что-то неистово доказывал бронзовой фигуре вождя мирового пролетариата. День русалки (54) – Есть Черное море. Там зори нежны. Там бархатный берег, лазурна вода… А Белое море не знает весны, – Там лед и снега, и седы берега… Есть Красное море средь знойных песков, – Там воздух горяч и сладки миражи… А Желтое море, как таинство снов, – Там солнце восходит, там праздник души… Но нету на карте Зеленых морей – Прекрасных морей – твоих милых очей. Они опьяняют, зовут глубиной… О них пою песни весенней порой… – Спасибо, милый! И цветы мне?! Ты очень внимателен ко мне, – смущенно улыбалась Рая-Русалка, с нежностью глядя на стоящего на берегу Субботу Ветрова. – Сегодня, мое солнышко, твой день. День русалки. – Спасибо тебе за все. Мне очень понравилась твоя песня. Сердечко мое холодное, слушая тебя, учащенно забилось, стало горячим. Они долго сидели на тихом, безлюдном берегу. Свидетелями их встречи были камыш и лягушки, да соловей, что, насупившись, молча сидел на верхушке вековой ветлы. Когда огромный алый диск солнца садился за зеленый горизонт, Суббота рассказал своей любимой о встрече с вдовой брата Среды. – Я у нее прямо спросил: «Кто ты? Скажи правду! Среду, к сожалению, уже не вернешь. Кто ты?» «Я Ада! – ответила она и зарыдала. – Я пошла на ложь из-за любви к твоему брату. Раю, все равно, не вернешь. А я любила, сильно любила твоего непутевого брата. Думаю, что бог простит мне эту ложь. Ведь Бог – это любовь… И ты, Суббота, прости меня, если, конечно, можешь…» – Я ее простил. Тем более у нее и у меня такая потеря – смерть Среды. Мы обнялись и я ушел… После дня Русалки Субботу Ветрова больше никто и никогда не видел. Ни среди живых, ни среди мертвых его не встречали… Любовь Ивановна несколько ночей не спала – ждала сына. Глядя на темное, неприветливое небо, она, заметила, что в созвездии «Большая медведица» не хватает одной звезды. «… Значит нет больше моего сынка Субботы?! Нет! Трех сыновей потеряла, а сама живу. Юными, молодыми потеряла. Сама же скриплю, небо копчу, а живу. Лучше б меня боженька забрал к себе, а детей моих не трогал, не торопил бы…» Ветров–Басаев (55) Прошла гроза. Вода лилась с небес стеной – на расстоянии нескольких шагов ничего не было видно, только плотные струи воды, воды, воды… Ливень, словно холодный душ, взбодрил разомлевший и вялый от жары городок. Умыл его улицы и дома, прибил к земле пыль и гарь. У Пятницы начался очередной долгий запой. В последнее время у него пьянство шло за руку с навязчивыми маниакальными состояниями. В один из зимних загулов, он возомнил из себя криминального авторитета: делал веером пальцы, пытался говорить на уголовном жаргоне, показывал всем армейские татуировки, выдавая их за тюремные. Весной он начал писать стихи. Заполнил ими пухлую общую тетрадь. Ходил по знакомым и соседям, дыша сивушным перегаром, читал им свои сальные, косноязычные вирши. Представлялся Александром Сергеевичем Рогаткиным. Летом, ни то от жары, ни то от дешевого паленого спиртного, Пятница возомнил из себя Басаева. Его отечное, лиловое лицо заросло густой, выкрашенной в черный цвет, бородой. Красные, как у быка, глаза закрывали темные солнцезащитные очки. На бритой под ноль голове – черная бейсболка с длинным козырьком. Но это еще не все. Он купил себе бэушную военную маскировочную форму и кое-как, трясущимися руками, смастерил деревянный автомат, отдаленно напоминающий «калаш». Лжебасаеву пригрозил местный участковый Кукуев, что посадит клоуна за сей маскарад на пятнадцать суток. Чтобы избежать неволи, Ветров пятый собрав в пятнистый рюкзачок съестные запасы, выпивку, соль, спички и курево, ушел из дому, ушел от людей в лес, раскинувшийся за Плешивой горой. Поначалу он жил в лесу, удил в речке Сугробке рыбу и собирал грибы с ягодами. Ночью и в ненастье согревался огнем костра. Чуть позже, в километре от своей стоянки, Пятница обнаружил дачный поселок. Люди бывали в нем наездами, много домов пустовало. Наш герой стал по очереди жить в пустующих дачах, меняя их, как кокотка ухажеров. У Ветрова–Басаева началась сытая, без проблемная жизнь: он только спал, ел, пил. Непрошеный гость в кладовках дач часто обнаруживал ни только съестное: консервы, крупы, полуфабрикаты.., но и спиртное. Не брезговал аптечными настойками и одеколонами. От диковатого, сосредоточенного только на собственной персоне, существования Ветров пятый стал часто разговаривать с самим собою и даже спорить. Как-то раз он забрел на один ухоженный дачный участок с маленьким, словно построенным гномами, домиком. Дернув несколько раз на себя дверь с большим амбарным замком и не взломав ее, Ветров разбил прикладом деревянного автомата стекло в окошечке. Но влезть не получилось. Тогда он выбил всю хилую, тонкую раму и втиснулся в домишко, словно медведь в теремок. – Да! Это не покои английской королевы! – Ветров–Басаев поправил очки, слезшие на кончик синеватого носа. Взломщик нашел в стареньком нерабочем холодильнике кусок соленого сала, несколько луковиц и буханку хлеба. Плотно подкрепившись, он опорожнил, найденный на полке, неполный бутыль со средством для размораживания замков и завалился вздремнуть на старомодную металлическую кровать с продавленной сеткой. Проснувшись под вечер, Ветров пятый, дымя самокруткой в кровати, расфилософствовался: «Хорошо жить одному! Хорошо без бабы. От баб одни только беды. Все войны на земле – и большие и малые – из-за них. Это только в сказках Иван-дурак встречается с Василисой Премудрой и Прекрасной и становится Иваном-царевичем. Полцарства у него и прочии блага. В жизни же часто из Ивана-царевича какая-нибудь Василиса Преблудная делает Ивана-дурака… У них же у баб только деньги в голове, да шоболы с косметикой. Какая-нибудь синячка с фонарем под глазом – этакая Манька Синеглазка – пока тебя ни объест и ни обопьет, постель твою не покинет. Выгонять надо. Сама не уходит. Правильно говорит хохол Тарас Тарасович: «Лучше козу держать. И молоко и слова плохого никогда не скажет…» – Ме-е-е! Ме-е-е! – раздалось на улице. – Коза?! Легка на помине! – Лжебасаев вскочил с кровати. Сопя и поругиваясь выбрался из оконца домика. Обошел участок и наткнулся на неказистый сарайчик. – Ме-е-е! Ме-е-е!.. Пятница взломал дверцу сарайчика и увидел в полумраке козу. –Чо, невеста, замуж хочешь?!. Поимень-травка (56) – Недойную корову отправляют на колбасу, – отстранив от себя Вторника, с ехидцей заметила Жанна Нетужилкина, вздохнула и, с брезгливой миной, поправила скомканное в ногах одеяло. – М-м-м. Я себя всего работе отдаю и сил, видать, на шекш не остается. – Ни шекш, а секс! Не-е-ету! Ты просто жадный. Сидишь на одной картошке с капустой. А для мужской силы необходимо полноценное, калорийное питание и крепкий, восстанавливающий силы, сон. – Да! М-м-м. Я мало сплю. Ложусь за полночь, а встаю с первыми петухами. М-м-м, еще темно на улице. – Я могу тебе, Ветров, помочь. – М-м-м. Это как? – Есть у меня старая колдовская книга. От бабушки осталась. В ней разные – большие и малые секреты, хитрости и прочее. – И чем же ты поможешь? – Помогу тебе стать суперсамцом. Но для этого надо сорвать в полнолуние на открытом заветном лугу шесть цветков Поимень-травки. – М-м-м. Сердце от нее не остановится, от Поимень-травки, а-а-а? – Не-е-ету. А если бы даже и остановилось?! Умереть- так на женщине! – М-м-м, не хочу! – Слушай, дурень, дальше и не перебивай. Через три дня будет пик полнолуния. Пойдешь на луг у Плешивой горы. Ровно в полночь раскрываются алые, словно свежая кровь, цветки Поимень-травки. Когда цветки полностью раскроются, досчитаешь до шести и быстро-быстро срывай. Слышишь, до шести. На счет «двенадцать» цветки закрываются и будет уже поздно. Сорвешь шесть цветков. Их надо будет настоять на шестистах граммах водки или самопляса. Настаивать будешь шесть дней. Пить по сто грамм на ночь, перед сном. – М-м-м, да?! У Вторника гулко билось сердце, его удары отдавались в висках. Ему не хватало воздуха – задыхался, весь взмок от жаркого, липкого пота, несясь во весь дух от Плешивой горы домой. Его напугало, почти до обморочного состояния, непонятно и ранее невиданное им действо на Плешихе: на вершине голой, крутой горы пылал огромный костер, высокими языками пламени полизывая, поджаривая желтый блин луны. Вокруг костра, дико вереща, скакали, плясали какие-то ни то люди, ни то нелюди. Над ними носились тени не то птиц, не то еще кого-то… ранее Ветровым невиданных… Зажав в потный кулак шесть цветков заветной травы и бубня себе в нос «Чур меня!», он стремительно ворвался в свой дом и закрыл все двери на замки и засовы. Всю ночь его трясло, лихорадило. Ветров второй сделал все, что ему велела полюбовница Жанна Нетужилкина, но, видно, где-то произошел малый, незаметный сбой и, вместо обещанной нечеловеческой мужской силы, он, после первой стограммовки настойки, проболел целую неделю. Скотина и птица кричала на разные голоса от голода и жажды, а Ветров, осунувшийся, с зеленым лицом, поносил кровью в туалете. Мычал и материл Жанну с её Поимень-травкой… Медали (57) В актовом зале мэрии города Сугробска над трибуной для выступлений висел большой плакат: «Чиновники – слуги народа!» Его автором был мэр Сугробска Понедельник Иванович Ветров. – Сегодня первое апреля, – начал свое выступление перед полным залом чиновников глава администрации. – По моему распоряжению изготовили медали. Да-да, вы не ослышались. Но это награды не за ум, талант и смекалку, а за глупость и нечистые руки. И сегодня я хотел бы ими отметить отличившихся… Зал замер. – Учредили, пока, две награды. Первая медаль за глупость, проявленную при выполнении того или иного задания, дела, поручения. Называется награда «За большой задний ум»! Сделана из натурального дуба… Кто-то в зале, по всей видимости женщина, тонко хихикнул. – Вторая медаль для казнокрадов и взяточников. Она изготовлена из липы. Называется «За липкие лапы»! Зал тихо загудел. – Прошу тишины. Я еще не закончил. Сегодня, сейчас мы наградим отличившихся. Итак, первым прошу сюда подняться Ивана Ивановича Иванова. Он строит дамбу через Сугробку уже более пяти лет. Вбухана тьма денег. Дамбу не раз смывало весенними паводками. Строит-строит Иванов, а дамбы-то нет. Его ждет награда «За большой задний ум». Прошу на сцену Иван Иванович… Вышел крупный и пухлый, словно пузырь, чиновник. Мясистая его ряшка, с дополнительными подбородками, пунцовела, блестела от пота. Шумно отдуваясь и протирая клетчатым платком лицо и плешь от испарины, он грузно, медленно поднялся на подиум. В его лице появилось что-то плаксивое, бабье. К нему приблизился Ветров с наградой и попросил повернуться спиной к залу. Со словами «За проявленную глупость на государственной службе» Понедельник прицепил медаль на широкий зад Иванова. У чиновника в маленьких, заплывших жиром поросячьих глазках появилась влага. В этот момент он напоминал большого карапуза, которому, после надоевшей манной каши, не дали, давно обещанного, куска торта. – А теперь прошу сюда подняться Адольфа Наполеоновича Македонского. Под его руководством начался строится мост еще десять лет назад. В проект вложена прорва средств, но, как подсчитали специалисты, только треть денег дошла до объекта, а остальные неизвестно куда делись. Может в чей-то глубокий карман? А, Адольф Наполеонович? На сцену поднялся бледный, худощавый и суетливо-подвижный чиновник пенсионного возраста и бегающими глазками болотного тона. Понедельник Иванович хлопнул его по плечу и надел, словно часы, браслет с медалью на запястье правой руки. – Еще несколько слов и займемся прямыми своими обязанностями, делами. Пока наша страна, увы, страна чиновников-дураков и чиновников-воров, простым людям ждать хорошей жизни не приходится… Зал загудел. – Знаю, сейчас вы пережили несколько тяжелых, неприятных минут. Скажу образно. Мысленно разденьте столетнюю горбатую, кривую, хромую и беззубую старуху… Раздели? Испытали чувство гадливости? Так вот – это голая правда! Кто-то в зале робко захлопал в ладоши. Его поддержало пол зала. На брёвнышке (58) В центре острова на бревнышке сидело три старушки. Две лузгали семечки, третья – уминала финики. Сплетничали. – Он работает-работает, а потом как запьет и все заработанное спустит. Тьфу-у! – У нас в России немало таких. Каторжно вкалывают, а потом по-черному, до белой горячки, пьют. Влезают в долги. Выходят из запоя, отрабатывают долги, накапливают кругленькую сумму и снова в загул. – А Санька до чего дошел! – Это какой? Чайник? – Он самый. Опустился. Жена от него ушла. Ест, что придется, не моется, пьет все подряд. – Я слышала, что он самогон сырой картошкой закусывает. А тарелки ему вылизывает-моет собака. Тьфу-у! – А мне жаль мужика. Мастер на все руки… Говорят он с женой жил, двух детей родили, а любил другую. По-настоящему. От этого и сломался. Теперь погибает. – Его сердце принадлежало одной, а кошелек – другой. – И сердце, и кошелек он отдавал одной. А она, зазноба его, полюбовница – стерва редкая. Ее слова, она пьяненькая говорила: «Мужчина – это такое животное, которое любит глазами и желудком, а не сердцем. И поэтому, женщина должна быть всегда в форме, должна быть картинкой – умытой, накрашенной, причесанной, нарядной. Должна уметь какой-нибудь хрен в томате подать на стол, как редкое, экзическое блюдо!» Вот! – Экзотическое! – поправила говорившую соседка по бревнышку, сплюнув финиковую косточку. По улице, около старушек проковыляла весьма полная женщина с большими авоськами в обеих руках. Бабульки на минуту умолкли, задержали дыхание. – Какой она была легкой и стройной в девичестве, – нарушила тишину любительница фиников, – словно молодая березка. – Да, была березкой, а стала толстым бабабом. – Баобабом! – А про Шарлотту слышали? – Про Шарлотту? Про модницу, что в спортивных костюмах и кедах ходит? – Да, про мать полковника. – Наша ровесница, а молодухой прикидывается. – Я не об этом. Она, живя со своим покойным мужем, сильно его допекала. Затуркала совсем мужика. Он от ее скверного, злобного характера и пить начал. Но не это главное. Она, Щукина допекала горемыку и после смерти. Придет на его могилу и чихвостит-чихвостит несчастного. Говорила Дуська-радио, что покойничек клеветы не выдержал, вылез из могилы и дал деру в неизвестном направлении… – Да, уж-ж, чяво только на свете не быват. А, слыхали про манячку? – Маньячка! Это про ту, что мужчин насилует? – Да! В селе Запечье двух до полусмерти довела. Изнасиловала и ограбила. У одного, как его, кошелек забрала, а у другого бутылку с самогонкой. Ночью дело было… – Говорят она словно с неба падает. Очень сильная и здоровущая. В теле бабенка. – Да, уж-ж. Чяво только на свете ни быват… Фантики (59)* Все лето Воскресенье находил у калитки своего дома разноцветные блестящие конфетные фантики. «Видно детишки устраивают посиделки на лавочке и конфетами лакомятся…» – улыбаясь, думал Ветров. Под осень в саду чудака зацвела старая, полузасохшая яблоня. Пол острова ходило и с нескрываемым удивлением на нее глядело. Суеверные видели в этом знак свыше, некое предзнаменование. Тихим ранним октябрьским утром Воскресенье вышел во двор и удивился. Медленно падал первый снег. Снежинки робко ложились на палый лист и жухлую траву, а меж них кружились, хотя не было даже намека на ветерок, разноцветные фантики. Они походили на ярких, не здешних бабочек, прилетевших из далекой южной страны. Сделав с десяток шагов в сторону своего позьма, Ветров седьмой увидел рядом с корявым, голым стволом старой яблони зеленого коня. Тот бил о земь копытом передней ноги, шумно фыркал, раздувая ноздри. Рядом не снегу сидела стайка снегирей. Воскресенье не испугался. Он в миг вспомнил слова Малинного облака: «Когда зеленый конь забьет копытом по белому в красное яблоко, кончится твое тягостное одиночество…» Поздним вечером в дверь чудака тихо постучались. – Это ты, Чудо в перьях? – спросил Воскресенье. В ответ молчание. – Заходите! Дверь медленно открылась. Ветров разглядел в дверном проеме соседскую девочку. Она стояла, потупив глаза, мяла тонкими, нервными пальцами шелестящий конфетный фантик. Пятница (60) Прошло около года после явления зеленого коня перед Ветровым младшим. Стоял жаркий август. Пятница, обильно потея, копал картошку. «Без недели тридцатник, а постоянной невесты у меня нет», – думал Ветров, набивая «вторым хлебом» двадцать восьмой мешок. – Ква-ква! Ква-ква! Рядом с нашим героем из земли неуклюже вылезла темная и пузатая жаба покрытая бородавками: Ква-ква! – вылупила на Ветрова пустые, сонные гляделки. – Ква-ква, квакалка, – передразнил он. – Тьфу-у-у! Это моя невеста? Легка на помин. Ква-ква! Тьфу-у-у! – мужчина с силою вонзил лопату в землю, зло пнул мешок с картошкой и вялой, усталой походкой побрел к дому. Вылив на себя два ведра холодной воды, Пятница побрился, надушился, оделся в чистое и отправился к соседке Шуре – толстенькой, коротконогой матершиннице и любительнице выпить. Она, приговаривая: «Баба в сорок пять – бздника опять», уже четыре года подряд отмечала свое сорокопятилетие. Они прикупили самопляса, взяли кое-какую закуску и отправились на речку «слушать соловьев». На лугу у воды паслось несколько холеных, флегматичных, грустноглазых коров и коза Хлещиборща Фея. Тарас Тарасович сидел на берегу с бамбуковой удочкой, попыхивая самокруткой с самосадом. Старик махнул рукой парочке и заметил: «Наверное, будет дождь. У меня перед ним всегда лысина потеет…» Недалеко расположилась веселая компания таких же, как Пятница и Шура, любителей выпить и погулять. Всей гурьбой они решили идти к Плешивой горе – там и речка глубже и место менее людное. Пылал огромный костер. Искры от него поднимались в темное небо и, наверное, становились звездами. Слишком их много было на бархатном небе августа. Пятница со своими дружками и подружками, крепко выпив и закусив, размахивая руками и высоко задирая ноги, скакал козлом у огня. Пел, точнее надрывно орал: …Летают ведьмы в такие ночки К угрюмым лешим за хрен-цветочком. Всей шоблой хлещут вино из бочки, Танцуют танго, ровняя кочки… К полуночи Ветрову пятому стало дурно. Ни то он много выпил, ни то «пойло» было плохое, а может все вместе, но ему стало казаться, что он среди ведьм и упырей… Пятница, отмахиваясь руками, хрипло, сорванным голосом крича: «Чур меня! Чур…», попятился назад. Издав глубинный, нутряной вопль, бросился бежать. Он спотыкался, падал, царапался в кровь о сучья и ветки деревьев и кустов, обжигался крапивой… В грязной и порванной, влажной от пота одежде он доскакал до деревянного мостка через Сугробку. Замер! В центре моста, стоя друг против друга, неистово бодались белый козел и чернявый черт. Темное небо на мгновение побледнело от всполоха молнии. Раздался долгий, раскатистый гром, словно где-то рядом самосвал высыпал щебенку на земь. Дунул напористый ветер, пригибая верхушку ветлы за которой прятался от нечисти Пятница. Еще вспышка, Еще гром. Тысячи градин запрыгали жемчужинами по земле… Утром Пятницу нашли мертвым у мостика. Медэкспертиза заключила, что он был убит молнией: тело обожженное, во рту расплавилась металлическая коронка. О Петре Петровиче… (61) Вторник жадничал. У него у самого было дел невпроворот, порой не все успевал довести до ума, но все равно упрямо нанимался на работы к соседям, знакомым. Сегодня он помогал копать картошку Шарлотте Щукиной – матери полковника КГБ. – Ты, милок, поторопись, а то небо за Плешивой горой тяжелое. Может дождь случиться… – М-м-м-да. – Небо тяжелое. У моего покойного мужа Петра Петровича тяжелый был характерец. Недаром же «Петр» в переводе с древнегреческого «Камень». Камень Камневич. Так я его звала. Тя-я-же-елый тип. У тебя, милок, куры несутся? – М-м-м-да! Несутся. У меня их боле сотни. Каждый день большое ведро яиц. – А у меня плохо. Может петух никудышный? А-а? – М-м-м, не знаю. – Мой Петр был, как петух, задиристым. Я его, когда он хвост распушит и в стойку встанет, Петухом Петуховичем звала. Задиристый, жуть… Лето к закату идет, а жара не ослабевает. Сил нет. Говорят, до сентября тепло будет. Мой Петюнчик тоже знойным был. Я его ласково звала «Зной Зноевич». – М-м-много у него имен тетя Шарлотта. – Да, много. На все случаи жизни. Он многое мог, но не реализовался. Да. Он когда начинал какое-нибудь новое дело, я его звала «Мог Немогович». Ни одного дела, дельца до конца не довел. Зато кровь мне пил регулярно. Пил ведрами. Я его в такие минуты звала «Кровосос Кровососович». Щукина до позднего вечера вспоминала Петра Петровича. Назвала еще с десяток его имен, кличек… Вторник больше устал от длинного списка определений покойного мужа тети Шарлотты, чем от утомительной копки картофеля. Он решил сменить тему. – Как вы думаете, тетя Шарлотта, будет второе нашествие татаро-монголов? – На вряд ли, милок. Скорее случится нашествие китайцев. Их много, им тесно, а у нас свободно и нас мало. Вымираем. Кстати, мой Петюнчик чем-то внешне походил на Мао Дзедуна. Соседи и знакомые не раз об этом говорили. Тоже, как и Мао, редкий тиран и самодур был. Я его так и звала Тиран Тиранович. – М-м-м. Не м-могу больше. М-м-м, – замычал, словно бык на скотобойне, Вторник, метнул в сторону лопату и скоро двинулся к забору. – Ты куда, милок? А-а картошку кто копать будет? – Не м-могу вас больше слушать, – Ветров второй перелез через забор, хотя рядом была калитка. – У вас язык по-острее и по-длиннее лопаты. Им-м-м и копайте сам-м-ми свою картошку… – Панк! Корсар! Инквизитор!.. Стена (62) Весной Понедельнику Ивановичу Ветрову снились странные, порой мрачные сны. В мае на протяжении двух недель ночами виделось одно и то же: Словно он, с огромной вязанкой ключей, пытается открыть дверь, но все никак не может подобрать нужный ключ. Под утро ключ найден, но дверь все равно не открывается, словно вросла в проем. Он долго ищет машинное масло. Смазывает им ключ. И злополучная дверь с гадким, до нервного тика, скрипом поддается, но за ней в нескольких сантиметрах каменная стена из красного кирпича с неровными швами раствора… Ветров первый проснулся в своем служебном кабинете. Вчера он допоздна решал городские и районные проблемы и засиделся на работе. В комнате был легкий сумрак раннего утра. – Да-а-а! – послышалось рядом. – Кто здесь? – По жизни я клоун И малость поэт. Могу дать бесплатный За рюмку совет… – Ха-ха-ха. Вы, дедушка, наверное, наш новый сторож? Около мягкого уголка, на котором лежал Ветров укрытый пледом, стоял рыжий горбатый старик с сорокой на плече. – Сторож? Да, если тебе так хочется. – Чудной вы какой-то. – Ты тоже. Тебя и в жизни ждет стена! – без предисловия рубанул с плеча гость. Понедельник опешил. – Вы знаете о моем сне? Но я его никому не рассказывал. – Я многое знаю и предвижу, – старик поскреб горб. – Я задам тебе, начальник города Сугробска, несколько вопросов. Ты отвечай односложно «да» или «нет». Добро?! – Добро! – У вас в мэрии никто толком не работает. Многие создают видимость. Большинство «бабочек» расфуфырено. Секс-атмосфера. Озабоченные и томные. Клади на стол и… – Пожалуй, да! – Без «пожалуй». Много медных лбов и чугунных задов? – Да. – Попадаются такие, кхе-кхе, у которых ума лопата и та с коровьей лепешкой. – Да. Ха-ха-ха. – Есть чиновники-козлы, а им, увы, доверяют «капусту». – Да, дедушка, в десятку. – Что я тебе, Ветров, скажу. – Что? – Беги, пока сам таким не стал. Беги! Твой сон о двери, за которой глухая стена, вещий. Беги, пока не поздно, – рыжий горбун погладил сороку и, со словами «Честь имею!», растаял в воздухе. – Призрак, наверное?! – подумал вслух Понедельник. – Рюмку за совет я ему так и не поднес. Заговорил меня старичок. Да, ладно. Может еще явится, тогда две налью… Насильница (63) Пышнотелая крашеная блондинка в красном нижнем белье, погляделась в большое зеркало: «Ша-а-а, хороша!» – похотливо облизнувшись, бросила она своему отражению. Пригубила пузырек с мутной, густой жидкостью. Минуту спустя ее глаза тона гнилой вишни засветились глубинным огнем. Огнем зверя, хищника перед кровавой охотой. С шумом распахнув окно в душную июльскую ночь, она внимательно поглядела в подзорную трубу на остров и село Запечье, что раскинулись внизу под горою. Оседлав пылесос «Ракета», со свистом и гулом вылетела вон, на улицу. Сделав несколько стремительных кругов над островом, зацепившись ногой за верхушку ветлы у реки и крепко выругавшись, она полетела в сторону большого каменного моста. «Я – кровь с молоком! Найти бы мне мужчину – пиво со сметаной, как мой покойный Ванька…» – думала блондинка, пристально вглядываясь сверху в сумрак улицы – «Мужичков полноценных не-е-ту-у. Старые хрычи да пьянь подзаборная…» Журналист Везувий Отрыжкин в добром расположении духа, пританцовывая, шел домой. Он выпил несколько рюмочек медового самопляса, плотненько, в кайф, закусил и теперь мурлыкал в нос, словно кот, наевшийся вдоволь сметаны. И тут, он услышал странный, идущий сверху нарастающий гул. Хотел, было, повернуться и глянуть, но не успел. Кто-то цепко схватил Везувия за шиворот модного пиджака, как хватает когтями сова мышь за холку, и понес на окраину села Запечья. Отрыжкин так струхнул, что потерял дар речи. Он попытался крикнуть, но выдавил из себя лишь тонкий писк. Хватка «совы» была мертвой. Жертва пришла в себя только на вершине высокого стога сена. Какая-то крупная, сильная баба, громко сопя, стала силою стягивать с мужчины штаны. – У-умо-оляю ва-ас! Не-е на-адо! – взмолился, заикаясь, он. – Я-я-я- все, все отда-ам! Только не-е че-сть! По-оща-адите! – Ша, мальчик! Ты влип, шалунишка, – скрипя зубами, рыкнула насильница и порвала в клочья цветастые семейные трусы член-корреспондента. – У-умоляю ва-а-ас! Я-я-я- отдам всю свою за-а-аначку! То-олько не э-э-это! – А-то! Все отдашь, шалунишка. И заначку тоже! – пачкая красную, потную лысину Отрыжкина синей помадой, блондинка крепко насела на него. Закрыла слюнявый, разбитый в кровь рот мужичка пудовыми грудями… Шум возни и вопли на сеновале утонули в ночных серенадах сверчков, брехе собак и кваканье лягушек… Лейла (64) Воскресенье делал уборку в курятнике и тихо декламировал стихи. – А ты, чудак человек, еще и поэт! – в курином гнезде, свесив ножки, сидело улыбающееся Чудо в перьях. Еще секунду назад гнездо было пусто, словно домовой материализовался из воздуха. – Признаюсь, пописываю для себя. Чем же еще заниматься долгими осенними вечерами, как ни сочинительством, бумагомарательством… – Прочти что-нибудь. – Ну, не здесь же, Чудо. Приходи вечером в гости. Устроим маленький литературный вечер. – Добро, чудак человек, приду, – домовой также быстро исчез, как и появился, растаял в полумраке курятника. – Эта пьеса стара. В ней чумная весна, – тихо, глухим голосом читал стих Воскресенье гостю. – Рядом Он и Она. Снова мир и война. Смяты простыни вновь чередой грешных снов. Штампы жестов и слов. Путь к постели не нов. Тошнотворные вновь, словно шлюхи духи, Наплодятся стихи о любви и крови… В этой пьесе воры все друг другу БРАТЫ. Они нравом круты. У них власти бразды. Мастерят дураки из фольги лжецветы, Поют гимн дураки свету мертвой звезды… … Остается скучать. Пьес других, увы, нет Пока жив ты поэт, пока теплится свет… Гость помолчал, вздохнул. – Мрачновато, чудак-человек. Я знаю, что у тебя сейчас есть причины писать светлые и легкие стихи… А ты? – Какие же причины, Чудо? – Я ждал, что ты сам мне о них скажешь. – Ни говори, загадками. – Я о Лейле! Ветров седьмой нахмурился. – Не сердись, чудак-человек. Нет ничего плохого в том, что тебя полюбила девочка-подросток, которая любит шоколадные конфеты и до сих пор, наверное, еще играет в куклы. – Все то ты знаешь, ЧП. – Не беспокойся, только я и знаю. – Казус, нелепость всей этой ситуации в том, что она, Лейла, дочка моей первой любви – Марины. Марина старше меня на три года. Меня, как жениха, не рассматривала. Рано выскочила замуж и скоро родила Лейлу. Не знаю как и относиться к знакам внимания со стороны этой девочки. Я к ней, пока во всяком случае, испытываю чистые, теплые чувства. Словно вернулась моя юность и передо мною не Лейла, а Марина. Дочка очень похожа на свою мать… Впрочем ты, Чудо, кажется пришел слушать стихи. Читать следующее? – Я весь большое ухо, Чудак-человек… -Твой взгляд, рассветная девчоночка, и чист и ясен. Не затуманился ещё слезой потерь и боли. Листвою шепчет о ЛЮБВИ тебе зелёный ясень. О НЕЙ поёт скворец, томящийся от майской крови. Тебе ЛЮБОВЬ и видится и слышится во всём. Дрожат ресницы, губы - ожидают поцелуя. ОНА не будет белым и пушистым детским сном. Не раз ЛЮБОВЬ ты будешь славить и бранить, тоскуя... Сказал мне циник, что ЕЁ придумали поэты - патлатые и бледные - мечтатели пустые. В их милых, глупых сказочках так много роз и света. У них сады цветут, благоухая, в стужи злые... Гляди, рассветная, на ночи пепельное небо. Луна? Луна - янтарный глаз печального циклопа. Он ждёт желанную, но зря, как пёс приблудный хлеба у врат железных и глухих жирующего сноба... А всё же, может быть, ЛЮБОВЬ - прекрасная болезнь? Старухи, ЕЮ захворав, бывает , молодеют. ...Рассветная, не хочется в твою мне душу лезть, но у тебя сейчас глаза блестят и щёчки рдеют... Понедельник (65) Стоял морозный, бесснежный декабрь. Понедельник Иванович Ветров ездил по делу к знакомому преуспевающему фермеру. Подъезжая к Сугробску, он попросил водителя остановить машину. – Хочу немного прогуляться по зимнему лесу. Хочу побыть один, – успокоил жестом телохранителя мэр. Ветров не торопясь вылез из черного, размером с танк, джипа и побрел в глубь леса, благо снега выпало мало и сугробов, как таковых, не было. Через минут пять заиграл гимн Советского Союза, а ныне России в мобильнике Ветрова. – Да! Я еще поброжу немного. Подышу свежим воздухом, – ответил он телохранителю. – Больше меня не беспокой. Я вернусь, когда посчитаю нужным. Все, – мэр отключил телефон. Ветров первый прошел несколько сот метров в глубь леса и услышал рядом голос. – Правильно делаешь! На ветке дуба сидела двуглавая черно-белая птица. «Значит дед Иван не сочинял, а говорил правду. Она есть, существует – эта странная черно-белая двухголовая птица…» – Ты о чем, птица? – То, что ты задумал. Доведи только все до конца, – дуэтом пропели черная и белая головы. – Спасибо! – Иди с миром, человеческий сын… Понедельник остановился, достал из барсетки записную книжку. На чистом листе крупным шрифтом вывел: «Очень прошу своих бывших коллег позаботиться о моей маме – Любови Ивановне Ветровой. Ваш П.И. Ветров». Мужчина положил барсетку с записной книжкой и сотовым телефоном на большой, высокий пень и быстрым шагом двинулся в глубь леса… Крещенские морозы (66) Отгудела, отплясала и отпела пьяная, обжорная и похотливая новогодняя ночь. Близилось Крещение. Днем, за несколько часов до праздника, термометр показывал «-38о». У многих на острове замерзла в кранах вода, благо уличные колонки выдержали лютый мороз и давали живительную влагу. «Газовые печки» топились в полную мощь, но все равно в домах было прохладно. Санька Чайник не унывал. Он встречным-поперечным, подняв указательный палец вверх, твердил свой афоризм: «Мороз под сорок, но водка крепче!» Вечером он позвонил Вторнику, и они договорились о встрече ближе к полуночи у деревянного мостика на речке Сугробке. Здесь накануне Крещенской ночи выдалбливался во льду один из самых больших прорубей города. В соборе звонарь глухо забил в большие и малые колокола. Вокруг прорубей собралось множество народа: малые детишки и ветхие старики, зрелые дяди и тети, молодежь. Робкие, любопытные зеваки с разномастной и разнокалиберной посудой (бутылки, банки, канистры, ведра…) наполненной святой водой и те, кто уже окунулся – очистился, освещали фонариками темную, неприветливую воду, колышущуюся в проруби, как бы помогая и приглашая совершить обряд остальных. Смельчаки быстро раздевались, кто до гола, кто до нижнего белья, и прыгали в воду. Одни это делали стоически молча, другие – кричали и визжали, особенно юные девицы. Вторник Ветров с Санькой Чайником, трижды погрузившись с головою в ледяную воду, тоже смыли с себя накопившиеся за год мирские грехи. – Ветров, может пропустим по маленькой? – М-м-м. Саня, грех это. – Ну-у, тебя. Я же говорю по наперстку. – Ладно. Давай. Простой русский человек, как правило, пить не умеет. Если он остограмится, то уже не остановится и «несет его по кочкам». Пока ни свалится или ни наделает больших глупостей. Санька засиделся у Вторника. Они уже лыка не вязали, но им все было мало. Чайник с двумя десятками рублей, скомканными до шариков, отправился за новой поллитровкой самопляса. Ветров остался его ждать, но так и не дождался, уснул. Санька, шатаясь, поскользнулся и упал в высокий сугроб. Так и остался в нем лежать до рассвета, пока его ни растормошили идущие в город по делам запеченцы. Он провел несколько часов в снегу в крещенскую ночь. Это обернулось для него большой бедой, но это уже другая история. Ранним утром, после Крещения, Тарас Тарасович Хлещиборщ, с большим мешком из под картошки, бродил по толстому льду реки Сугробки и собирал вещи, забытые участниками ночного купания. Старичок не брезговал даже нижним бельем… Воскресенье и Лейла (67) После гибели Пятницы, Воскресенье часто заходил к своей матери. Помогал ей, покупал в городе продукты, делал всю мужскую работу, благо жил рядом – в сотне метров от родительского дома. Потеряв троих сыновей и, сравнительно недавно, непутевого, по - своему несчастного четвертого сына Пятницу, Медведица сильно сдала: у нее стали опухать ноги, скакало давление, появилась большая одышка. А тут еще исчез Понедельник. Любовь Ивановну успокаивало только то, что ни одна звезда в созвездии «Большая Медведица», после исчезновения сына, не погасла. Значит, старший Ветров жив и, даст Бог, когда-нибудь вернется. Медведица решила проведать младшенького и попросить его о помощи: снять с окон пыльные занавески и повесить свежие, чистые. В домике с видом на небо было пусто. На позьме сына тоже не оказалось. Пожилая женщина грузно, устало присела на стул, стала ожидать прихода Воскресенья. В центре стола, среди бумаг она заметила лист со знакомым почерком. На нем было крупно и разборчиво выведено: «Мама, я вернусь! Любящий тебя сын Воскресенье», «Чтобы это значило? Неужели и самый младший, самый ласковый и внимательный решил меня оставить одну на старости лет?..» – в подслеповатых глазах появилась тоска и влага. Скатилась одна слеза, другая. – Не расстраивайтесь так шибко, Любовь Ивановна! Ветрова увидела на кровати сына маленькое существо с яйцевидной головой. – Не пугайтесь меня, – словно прочитав мысли женщины, успокоило оно. – Я приятель вашего сына. Был домовым его курятника, а теперь, вот, сторожу дом… – Что это? – женщина показала Чуду в перьях записку. – Не расстраивайтесь, пожалуйста. Я сейчас все вам объясню, все расскажу… Вашего сына полюбила девочка Лейла. – Это соседская? – Да! Дочка Марины – первой платонической любви вашего сына. – Они сбежали? – Не торопитесь! Все по порядку. Три года они, Лейла и Воскресенье, просто дружили, общались. Вчера девушке исполнилось шестнадцать лет. Они были вместе целый день и всю ночь. Между ними случилось то, что случается между мужчиной и женщиной, любящими друг друга… – Но она же еще ребенок? – Так обычно думает большинство взрослых, зрелых людей о юных. Поверьте мне, нынешние дети ни такие, какими были вы. В стране, хорошо это или плохо, произошла, благодаря Западу, «сексуальная революция»… Они скрылись, чтоб их не осуждали соседи-старички и старушки. – А на чем и куда они уехали, вы знаете? – перебила разглагольствования домового Медведица. – Сегодня ранним утром они оседлали зеленого коня и поскакали в синюю даль по алым от восходящего солнца облакам. Воскресенье обещал вернуться. Он сдержит свое слово. Он обязательно вернется, Любовь Ивановна. Пожилая женщина обмякла, ссутулилась, о чем-то тягостно думая. – Нате, съешьте! – Чудо в перьях протянуло Ветровой конфету. Медведица автоматически взяла угощение и не чувствуя вкуса съела его. На улице дул злой и льдистый северный ветер. С сумрачного неба сыпались редкие, колючие снежинки – вестники приближающейся Зимы. У Любови Ивановны зашевелился в кулаке, словно живое существо, конфетный фантик. Она раскрыла ладонь и он, фантик, яркой, нездешней бабочкой стал подниматься в высь… «Я тебя, сынок, не осуждаю. Ты жил отшельником. Счастья тебе и любви с Лейлой. Я буду вас ждать. Может и дождусь. Постараюсь…» Вторник (68) Пропели первые петухи, но Вторник решил полежать еще несколько минут. После вчерашних работ по хозяйству – вскопал несколько соток земли под картошку – ныло, саднило все тело. Он, покряхтывая, перевернулся на другой бок и услышал, что кто-то грубо, по всей видимости ногами, бьет в дверь дома. На пороге стояла, поглаживая большой живот, Марья Перинова. Более пяти лет назад она покинула своего мужа и уехала в столицу. – Москва – клоака! – выдохнула она из себя. – М-м-м! – опешил Вторник. – Ты, м-м-м, чо беременна? – Да, биби меня в дуду. На седьмом месяце. Работала на стройке, а там сквозняки. Вот и надуло мне, – она оттолкнув животом тощего, сутулого Вторника, зашла в дом. – Тьфу-у! Хоть бы шо то путное почитал, а то все одну и ту же фигню, – она повертела в руке потертую, в пятнах брошюру «Кастрация самцов сельскохозяйственных животных», – Например, Кинга или Сорокина… – брезгливо метнула книжку обратно на стол. – М-м-м. Куда уж нам колхозникам. Мы на м-м-метро не катаемся. – А ты, я вижу, Ветров, как говорил мой знакомый хохол-водила, шуткуваты навчився. Добре! – М-м-м. Я пошел! – М-м-мэй! – Что за «мэй»? – Так меня окликал молдован-каменщик. – Я пошел… – Иди-иди. Нежно целую тебя в двадцать первый пальчик. – Ну-у-у, тебя, Слониха! Ветров второй оставил Марью одну. Он сильно расстроился и не хотел с женою оставаться наедине. Она его тяготила. Он, сам не свой, вышел из дому и побрел туда, куда глаза глядят. Сам того не заметил, как добрался до ветхой хижины Саньки Чайника. Ветров сначала услышал своего приятеля, а потом уже увидел. – Хрясь тебя через коромысло, япона мать… Хрен с гусиной шеей перепутал… Ядреный корень!.. – из окна высовывалась тощая, с голубым отливом, рука Чайника. Он, грозя кулаком, материл проходящего рядом незнакомца. – Здоров, Санька! – Вторник протянул ему руку для пожатия. – М-м-м, ты чего кипятишься с утра, Чапай? – Привет, Вторник! – У Чайника была ледяная кисть, словно он ее только что вытащил из холодильника. – Да, вот, мамка не наливает сто грамм, а меня всего корежит после вчерашней попойки. Начал ругаться, так она меня, япона мать, в одних трусах посадила на подоконник и ставни распахнула, чтоб я, якобы, охладился, остыл… А тут ходят всякие и косо зыркают на меня, япона мать!.. У Саньки Чайника отечное, не бритое лицо. В мутных глазах – белые кисляки. В крещенскую ночь он отморозил две ноги и руку. Пошло воспаление, гангрена и ему ампутировали конечности. И теперь он, когда важно, задиристо подбоченясь единственной рукой, ругался матом и брызгал слюной, то очень походил на фыркающий паром чайник. Люди, до беды прозвав его «Чайником», словно накликали, предсказали его будущность. – Ты знаешь, Вторник, сегодня слушал радио с утра. Так вот, по нему рассказывали, япона мать, про слонов, любящих рисовое пиво. Это случилось в индийской деревушке. Слоны так захотели пива, ядреный корень, что бегали по всему селению и опрокидывали, заваливали хижины в поисках пойла… – М-м-м, звездишь! – Трахнутся мне с этого подоконника, ей богу, истинную правду говорю!.. Слышь, Ветров, – калека состроил мученическую мину, – сходи за самоплясом, а-а-а?! – Я денег не взял. – Сходи к тёте Фросе. Попроси в долг под мою пенсию. Я бы сам пробежался по острову слоном, но не могу. Сам видишь. А-а-а, япона мать?! Приятели выпили литр самопляса не закусывая, лишь занюхивая его корочкой черствого, заплесневевшего хлеба. Потом еще литр. Чайник свалился с подоконника, но без особых последствий. Шатающийся Ветров с матерью калеки кое-как подняли и донесли Саньку до кровати. Вторник, как ему показалось, шел вечность до своего дома. Несколько раз падал. Покарябал себе лицо, набил несколько синяков, порвал рубаху, но таки к ночи добрался. В дом он заходить не стал. Влез в будку туалета, чтоб сходить по большой нужде. Штаны он забыл снять… Уснул и опрокинулся назад. Во сне, то ли от тяжелого, спертого духа нужника, то ли от самопляса, его стало тошнить и вырвало. Ветров второй силился повернуться на бок, но тесная будка не позволила и он захлебнулся собственной блевотиной… Дом престарелых (69) Смерть Вторника окончательно подкосила Медведицу. Она несколько дней пролежала в постели. Не ела, лишь смачивала губы водой. Ее перестали слушаться ноги, помутился рассудок – начала заговариваться. В подобном состоянии ее нельзя было оставлять одну без присмотра. Коллеги ж Понедельника по мэрии на прочь забыли о просьбе своего бывшего шефа: помочь Любови Ивановне. И соседка – подружка Клавдия, собрав необходимые бумаги, определила несчастную в дом престарелых. Окна и двери дома Ветровых заколотили. Не забыли и о домике с видом на небо. С собою девяностолетняя старушка взяла единственную вещь – ветхое лоскутное одеяло – память о семи сыновьях. Медведицу поместили в комнату на двоих к старой знакомой из села Запечье. Жили они тихо, мирно, безсуетно. В сытости и тепле. Обитало в доме несколько странных старушек и старичков. Один дедушка брал в руки веник, словно балалайку и, «бренькая» на нем, пел частушки, как правило, пошлые. Старушка, похожая на бабу Ягу после ночного шабаша, постоянно носила с собою большое, тяжелое зеркало. Гляделась в него каждые пять минут, целовала свое отражение, пачкая гладь стекла яркой помадой, и восторженно шамкала: – Ах! Шамая крашивая!.. Другая бабулька все время сидела на своей тумбочке и никого к ней не подпускала. Ела и спала, сидя на ней. Тумбочка была набита всяческим хламом: пустыми коробками из под конфет, одноразовыми стаканчиками и тарелочками, баночками из под кофе и чая, пластмассовыми ведрышками из под майонеза и другими «сокровищами». «Сторожиха» часто проверяла задвижку и кричала тонким, резким голосом: – Караул, Иван Панфилович! Грабят! Ей недавно исполнился сто один год. Иван Панфилович, как выяснилось, герой гражданской войны, персонаж из далекой, боевой и трудовой юности бабульки. Обитатели дома смотрели по телевизору сериалы, как отечественные, так и импортные: о любви и ненависти, о героях и подлецах, о войне и мире. Жило в заведении несколько молодящихся старушек. Они красили волосы и губы, румянились и пудрились, кокетничали и флиртовали со старичками. Жадно читали желтую прессу об интимной жизни политиков, спортсменов и творческой элиты… Как-то поступил в дом престарелых старичок-карлик – ростом с первоклассника – короткие кривые ножки и лохматая борода до пупка. Стал он ухаживать сразу за всеми «молодухами». Озабоченные бабульки таскали бабьего угодника, в прямом смысле, на руках. Ссорились из-за него, интриговали, скандалили. Он стал «секс-символом» дома. Правда, не надолго. У Казановы, в одну из бурных ночей, остановилось сердце. Его кончину оплакивали больше и дольше, чем смерть какого-нибудь сериального Хуана Карлоса или дона Педро… Медведица малость ожила, но временами твердила о каком-то проклятье рода Ветровых, о черной колдунье. Ее жалели, оберегали… Она ждала сыновей – Понедельника и Воскресенья. В хорошую погоду старая мать часами стояла у ворот дома и вглядывалась в даль… В ненастье – сидела у окна… Любовь (70) Все сказки, как правило, заканчиваются хорошо. Добро побеждает зло, любовь и жизнь сильнее смерти, любящие друг друга живут долго и счастливо. Умирают вместе во сне – тихо и легко. Умирают, обнявшись. Эта сказка не исключение. Прошло чуть более года и вернулись Понедельник с Воскресеньем. Они приехали в дом престарелых за Любовью Ивановной Ветровой. Появились не одни: Понедельник с первой своей любовью, а ныне женой – Вероникой Несмеяновой и шестнадцатилетним сыном Антоном, Воскресенье с Лейлой и грудной девочкой Маришкой. Ветров первый построил на острове, рядом с родительским домом, просторный особняк, похожий на сказочный терем. В нем всем хватило места – и матери, и братьям с семьями. Понедельник вернулся к предпринимательской деятельности. В большую и малую политику не лез. Стал одним из самых видных и щедрых покровителей и меценатов в городе Сугробске. Всячески поддерживал культуру, спорт, стариков и детей. Ветров седьмой сел писать «Сагу о Ветровых». Прошло немало лет. Медведица купалась в любви, ласке и заботе сыновей и внуков. Одним тихим и теплым майским утром, когда занималась акварельная заря, цвели сирень с черемухой и пели птицы, она покинула этот мир. По просьбе Медведицы, ее прах развеяли над островом, Плешивой горой и лесом, где она любила прогуливаться. Понедельник Иванович Ветров, взяв разрешение у властей, обустроил на Плешивой горе парк с фонтаном, аттракционами, резными деревянными скульптурами сказочных героев, с кафе для всей семьи… В центре вершины Плешивой горы возвышался большой валун, похожий очертаниями на спящего медведя. На нем высекли слово «Любовь»… 2005-6 годы г. С*****ск 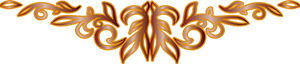 |
|
Категория: Проза › МВ | Просмотров: 1054 | Дата: 20.12.2017 | |
| Всего комментариев: 0 | |

