
Дневник А.З. Часть-3 |

28. О писателях Поздним вечером мне позвонил брат Иван Великанов и попросил, чтобы я завтра, если смогу, зашел к нему. Ну, и к маме, само собой. Брат сказал: — Я хочу с тобой, Спиноза, поговорить о писателях. — Тебе нужно «большое ухо», Князь? — Да. Приходи, пожалуйста… На следующий день в комнате Ивана, удобно устроившись в кресле, я пил маленькими глотками горячий и крепкий черный чай. Иван Великанов, лежа на диване, сосал принесенный мною «Чупа-чупс». — Как ты, Спиноза, относишься к слову «член»? — спросил со смеющимися глазами сладкоежка. — Не нравится мне это слово. — А почему, Спиноза? — «Член» у меня ассоциируется с мужским половым органом. Еще с политбюро Советского Союза. — Еще, Андрей, есть такое понятие, как «член Союза писателей». — Да, Иван, есть. Лучше бы «член» заменили, допустим, на «лицо». Лицо Союза писателей — лучше звучит. Не вызывает генитальных ассоциаций. — Я как раз об этом думал несколько дней, — брат, быстро привстав с дивана, опустил на пол ножищи-ласты. — Помнишь, Спиноза, при советской власти был лозунг: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи» или что-то подобное. — Помню, Князь, помню. На длинных алых полотнищах белыми буквами. — Так вот, — Великанов, размахивая палочкой от леденца, затараторил, читая с мятой бумажки, — надо сделать разделение в рядах писателей на «Ум Союза писателей», «Честь Союза писателей» и «Совесть Союза писателей». Если литератор головастый, значит — «Ум СП». Если кристально честный и порядочный — «Честь СП». Если душевный, совестливый — «Совесть СП». Вершина — три в одном, то есть когда литератор и «Ум», и «Честь», и «Совесть СП». По подобное звание надо давать талантливым и порядочным литераторам. Если хочешь, Спиноза, живым классикам… — Это не я Спиноза, а ты. Намудрил, Иван Великан, однако. — А то! — важно бросил брат и повалился на диван. — Допустим, Князь, твоя выкладка правильная. Наш общий знакомый Алекс Пипецкий числится в Союзе писателей. Он кто по твоей квалификации? Иван Великанов нахмурил брови. — Он просто член! Мне стало смешно, и я улыбнулся. Брат Иван загоготал, да так громко, что на шум прибежала наша мама. Весна 200… г. 29. Генитальная лирика Я шел с суточного дежурства уставший и опустошенный. Утром перед пересменкой мне компостировал мозги начальник охраны — полковник Полевой. Между нами, охранниками, — полковник Половой. Надо заметить, редкий самодур, довольно мутный, скользкий тип. Но черт с ним. Дома меня ждал другой сюрприз. — Тама к тебе гость пришла, — сказала мне в коридоре бабушка Настя. На кухне с кислой физиономией сидел Алекс Пипецкий. (Недавно мы с братом его вспоминали. И на тебе, он тут как тут.) При виде меня Пипецкий оживился и полез обниматься. — Я выпустил сборник генитальной лирики, — зачастил он. — Какой лирики? — Ге-ни-таль-ной, Андрей, — сказал Алекс по слогам. — Шо ты хош, Пипецкий, из-под меня? — спросил его я на южно-украинский манер. — Андрей, помоги свободному художнику! Купи у меня один сборник, а лучше два или три. А-а-а? — Сколько? — спросил я. Мне хотелось поскорее с ним развязаться и прилечь отдохнуть часок-другой. — Для тебя всего лишь пятьдесят рублей. — Даю тридцать. — Сорок, — торговался поэт. — Двадцать пять, — куражился я. — Тридцать пять! — настаивал гость. — Двадцать и ни копейки больше! Алекс только было открыл перекошенный рот, хотел что-то возразить, но я его грубо оборвал: — Двадцать и баста! — Хорошо-хорошо-хорошо, — согласился он, сложив ладони и по-холуйски кланяясь. — Мне сборник помог выпустить один губернский предприниматель. Большой поклонник Баркова и современного прозаика Владимира Сорокина… — тыча мне в лицо книжкой, сыпал слова Пипецкий. — Вот послушай, Андрюша, из этого сборника. Цикл «Блонда с лазоревым взглядом», — размахивая тощей бледно-голубой ручкой, поэт начал декламировать? Не морочь мне голову, красотка. Не пили и стружку не снимай. Я в печали. Я желаю водку. Ты моей морковкой не играй… — Алекс, даю двадцать рублей и иди похмелись, — перебил я его, — а мне надо отдохнуть. — Но? — Никаких «но»! Вечером на свежую голову я полистаю, почитаю твою книжку. — Тридцать рублей и я испаряюсь, — начал новый торг генитальный поэт. Я выгреб всю мелочь: «серебро» и «золото». Около тридцати рублей. И он нехотя ушел. Вечером я взял в руки ярко-желтую книжицу стихов Алекса Пипецкого. Сборник назывался: «Розы, мимозы и хрен». Подзаголовок «Генитальная лирика». Выпущен он был под псевдонимом Шурик Лобков. Пипецкий, являясь членом губернского Союза писателей, не мог позволить себе такую вольность как публикация подобных сочинений под настоящим официальным именем. Ханжи из СП его бы заклевали и выгнали из своих рядов за подобные перлы. Для начала я заглянул в содержание книжки. Некоторые стихи имели название, но в основном без оного — именовались по первой строке. Вот несколько первых строк: «Не гляди с укором, пидор нежноглазый…» «Ищу пупок средь складок жира…» «Начнем житуху с чистой простыни…» «Синяки с утра идут на водкопой…» «Твой бермудский треугольник…» (имеется в виду самое интимное место у женщины) «Я пошляк плешивый, дятел похотливый…» «Я желаю поджениться…» и тому подобное. Приведу одно стихотворение полностью. Оно более «стерильное», более печатное, менее генитальное. Семь Маша Гулькина — бухгалтер. У бабеночки бюстгалтер Аж размерчика седьмого. Охмурит она любого Председателя райкома, Пастуха и агронома. Ей завидуют все вдовы, Разведенки и коровы. Злые слезы льет Анфиска С силиконовою сиськой. Лифчиков большие горы Маше дарят ухажеры. Шить из лифчиков панамы Маше подсказала мама. Носят их все ухажеры И жених Марии — Жора… Надо отметить, что обычные пейзажные, любовные, гражданские… стихи Алекса Пипецкого — однотипны, безлики, трафаретны. Таких стишат много, как блох на стае бездомных собак. В генитальной же лирике есть кураж, полет, свобода от догм, полная раскрепощенность. Стихи эти — ядреные, румяные, с огоньком. Возможно, Алекс Пипецкий в подобных (генитальных) стихах полностью, до самого дна своей темной и грешной души оголился, полностью высказался. В этих стихах он не фальшивый, он — настоящий. Пусть пошло, вульгарно, натуралистично, но, на мой субъективный взгляд, лучше живой чертополох, чем искусственная, мертвая роза. P. S. Вечером мне позвонил брат Иван Великанов и сказал, что к нему заходил пьяненький Алекс Пипецкий. Гость извинился за «рисунок» (кусок обоев) и подарил сборник генитальной лирики. Весна 200… г. 30. Егор Сегодня вечером разглядывал свой фотовернисаж (два десятка черно-белых и цветных фотографий в одной большой раме). Признаюсь, взгрустнул. На одном маленьком любительском снимке я и четверо моих приятелей детства и юности. Нам по восемнадцать-девятнадцать лет. В центре фото — Егор Стрельцов с гитарой (мы его звали Егой). Он на гитаре никогда не играл. Шестиструнку взял в руки для форса. Стрельцов жил в соседнем дворе, но дружил с нами, часто к нам приходил. У меня перед глазами картинка тридцатилетней давности: Егору лет двенадцать. Он важно достает из кармана маленькую жестяную баночку из-под вазелина, откупоривает ее грязным ногтем. В баночке приблизительно двадцать копеек медью и жеванная-пережеванная жвачка в виде двух серых горошин. Егор ловко бросает в рот одну из горошин и, прищурив по-кошачьи глаза, начинает с флегматичной невозмутимостью, словно верблюд, жевать. Толстенький Владик Брикетов, глядя ему в рот, канючит: — Ега, дай пожевать? — Нет, Колбасик! — У тебя же еще есть жвачка. — Нет! Ты ее, Колбас, проглотишь, и у тебя попа слипнется. —Смотри, чтоб у тебя не слиплась, жмот. В Советском Союзе в то время жевательную резинку не выпускали. Ее обычно привозили командировочные из заграницы. В нашем южно-украинском случае — моряки дальнего плавания. Стоила жвачка очень дорого. Егор к окончанию школы вымахал под метр девяносто. Сильный, статный и выносливый, словно лось, но, увы, без царя в голове. Он пошел учиться на сварщика в ПТУ (профессионально-техническое училище). В молодежной среде это заведение именовали «бурсой». В восемнадцать лет Егор со своим дружком из бурсы в состоянии сильного опьянения разбили стекло киоска «Союзпечать». Была ночь, и хотелось курить. Кроме пачки сигарет, Стрельцов прихватил с собою несколько журналов типа «Крестьянка». Зачем журналы? Непонятно. Он никогда и ничего не читал. Милиция вычислила воришку при помощи служебной собаки. Она привела стражей порядка прямо к дверям квартиры Стрельцовых. Егору дали три года «химии». На волю он вышел синим от татуировок. Ходил гоголем. Держался героем. Многие глупые и пустые девицы покупались на его уголовное прошлое, на тюремную романтику, на манеру себя подавать как бывалого уркагана, на его жаргон — он ботал по фене… После отсидки он не только пил, но еще начал колоться и покуривать травку. Когда Егору было тридцать лет, он сошелся с какой-то невзрачной и порочной на вид женщиной. Она ему родила дочь. Жили они в съемной лачужке с низкими потолками, глиняным полом, покрытым крашеным рубероидом, и малюсенькими подслеповатыми окошечками. На небольшом земельном участке, что рядом с лачужкой, Егор выращивал мак и коноплю. Перед глазами еще одна картинка, связанная с Егором. Года за три до отъезда в Россию я с ним столкнулся у своего дома. Пригласил к себе. Мы, сидя на балконе, пили кофе, курили, говорили. Перед тем как уйти, Стрельцов попросил: — Андрей, насыпь мне кофе в спичечный коробок. Я с женой дома покайфую. Я выполнил просьбу и поинтересовался: — Сколько лет дочке? — Четвертый год идет, — ответил он, пряча в карман коробок с кофе. — Давай я дам твоей дочке несколько детских книжек с яркими картинками. Мой сын их уже давно «отчитал» и «отсмотрел». — Да ну-у, — он нахмурил брови и скривил рот, — ей это не надо, Андрей. Я был удивлен и с трудом это скрывал. Получается, детство дочери Егора проходит без сказок, без книжек с праздничными иллюстрациями. А может, я зря расстраивался? Яблоко от яблони недалеко падает? Весна 200… г. 31. Свечи Юные девицы — худенькие, стройные с пышными копнами волос — похожи на тоненькие, длинненькие, мгновение назад зажженные и горящие ярким пламенем свечечки. Они, как правило, быстры и резвы. Без повода звонко, колокольчато смеются. Глуповаты и наивны. Большинство из них верят в принцев и строят воздушные замки. Они — особенно сельские девчата — с умилением глядят сериалы вроде «Доярка из Хацапетовки». И моя мама более полувека назад была такой же: стройная, худенькая и смешливая. Тогда — в начале пятидесятых годов прошлого века — в городе Сугробске, да и не только в нем, пожалуй, во всем Союзе эталоном девичьей, женской красоты были роскошные формы: широкие бедра, пышная грудь, румянец во все лицо… Я думаю, что это было связано с недавней войной, голодом и разрухой. В ту пору, если ты девица с параметрами 90х60х90, да еще и бледная — значит, больная (чахоточная). Мой дед — мамин отец — Александр Шутихин в подпитии, глядя на свою дочь, порой бурчал: — Балерина хренова! Все девки как девки, а эта… тьфу! Сейчас же — в двадцать первом веке — полнота, целлюлит не приветствуются. Мама порой жалуется: — Стала словно верблюд! Вся в каких-то наростах, буграх. Сбросить бы полцентнера. А-а, нет. Моя соседка по коммуналке бабушка Настя тоже болезненно полная. А в юности, как и моя мама, была стройной и худенькой. Они — моя мама и бабушка Настя — были тонкими и длинными свечками, горящими ярким пламенем. Прошло более полувека и они стали оплывшими, догорающими, с наростами расплавленного и застывшего воска, с маленькими «подмигивающими» огоньками свечками-пеньками. Да, пафосно и банально выражаясь, время жестоко и неумолимо. Порой гляжу в зеркало и вижу в нем «полную луну». Так меня, подкалывая, называет одна из губернских поэтесс. Бабушка же Настя выражается проще: — Ты стал, как футбол (то есть мяч). Да, за последние два года я сильно поправился. Растет пупок (живот). На только что зажженную свечу я уже давно не похож… P. S. Это у свиней — чем толще, тем породистее, а у людей — уродливое ожирение… Бывают пожилые люди поджарые, худые, но они тоже свечки-пеньки, только по тоньше, по мельче… Весна 200… г. 32. Рубль Конец марта. Пора дождей и жирной грязи. Кругом мутные лужи и непролазная жижа. Из-под тающего снега на обочинах дорог появляется мусор: бутылки, консервные банки, пачки из-под сигарет, гигиенические прокладки… Весь этот сор до поры до времени копился и покоился в сугробах. Теперь обнажается. Все-таки мы, россияне, — редкие засранцы. Погода переменчивая: то нахрапистый льдистый ветер, то мокрый снег, то дождь унылый. Солнышко улыбчивое — редкий гость. Весною, в дождливые и ветреные дни мой брат Иван Великанов становится беспокойным, плохо спит. Недавно он сорвался в Губернск на Центральный рынок за сырьем (гнилыми фруктами) для сока «ассорти». Иван решил одним выстрелом убить двух зайцев. Перед походом на рынок он отправился в «свою» больницу, чтобы показаться врачу, проконсультироваться. Сидя в автобусе на высоком заднем сиденье этаким орлом, он увидел на полу у дверей рубль. До больницы было еще далеко, но этот глупый верзила встал со своего места и наступил башмаком сорок шестого размера на монету. Взять рубль прилюдно, как потом объяснил Иван, ему было неловко, неудобно, а стоять этаким столбом у входных-выходных дверей вроде бы ничего. Его толкали, ругали, обзывали. Великанов то краснел, то бледнел, то шел пятнами, но все равно с места не сдвинулся. Одна женщина обронила: — Немцы в сорок первом себе такого не позволяли… Все загоготали. Из-за рубля Иван проехал свою остановку. На конечной остановке, поймав на себе презрительный взгляд кондукторши, бедолага поднял с влажного и грязного пола монету. — Плати за проезд! — Я уже платил! — Это новый рейс, — наезжала кондукторша на обладателя рубля, — плати или выходи! Мой брат вышел. Губернска он толком не знает. Район города был ему не знаком. Он заблудился. В больницу не попал, на рынок тоже. Когда сгущались сумерки, Великанов пешком доковылял до ж/д вокзала. Хотелось пить и есть. Ночью, ожидая утреннюю электричку, он проел все деньги, что у него имелись, в том числе и злополучный рубль. Зайдя в вагон электрички, Иван с облегчением вздохнул, но мытарства еще не закончились. Около часа, что шел электропоезд до родного Рабово, мой брат то бегал от кондукторов из вагона в вагон, то прятался от них в туалете… P. S. Март беден на краски. Белые, серые и черные тона. Вечерами беру в руки увесистый альбом с репродукциями картин Гогена. Медленно листаю. Экзотика. Карнавал ярких, сочных красок, наполненных жарким таитянским солнцем. Становится лучше. Становится легче. Хочется жить. Весна 200… г. 33. Лотерейный билет Весна — пора любви. Люди вялые, сонные, бледные. Но в них начинает просыпаться, шевелиться, словно медведь в берлоге, основной инстинкт. Коты дико, истошно орут. Собаки бегают сворами: впереди сучка, а за нею свитою кобели. Из-под грязного рыхлого снега выглядывают, помимо сора, побеги ярко-зеленой новой травы, пока слабой и хилой. Скоро набухнут на деревьях почки — зародыши будущих листьев… К чему я все это написал? Просто так, захотелось. Весна же, как-никак. Получилось трафаретно. Но как получилось, так и получилось. Сегодня днем за чаем мне бабушка Настя рассказала новую «сказку» о лотерейных билетах. Перескажу ее своими словами. Итак, Клавдии — дочери Анастасии Афанасьевны — толстой и круглой, словно гигантский пузырь, неряшливой и вульгарной бабе недавно приснилась, извиняюсь, большая куча говна. Вроде бы она в нем вся перепачкалась. Намазала ножом на хлеб фекалии, как мажут кабачковую икру. Приблизила бутерброд ко рту и проснулась. Клавдия не умеет разгадывать сны, но то, что говно снится к деньгам, — знает. После подобных ночных видений дочь бабушки Насти обычно зычным генеральским голосом зовет внука Димку — шустрого малого — и отправляет его в Сбербанк за «собачьими билетами» (быстрая лотерея с изображением собак разных пород). На этот раз Клавдия поступила так же: позвала внука и дала ему тридцать рублей на два билета. — Купишь и принесешь мне. Я сама сотру и проверю, есть выигрыш али нет. Понял? — Понял, понял, — недовольно ответил мальчишка, ибо до Сбербанка идти двадцать минут быстрым ходом — путь неблизкий. Обув высокие резиновые сапоги и взяв большой зонт, Димка с кислой и пасмурной, такой же, как погода на улице, миной отправился в путь. Минут через сорок пять — пятьдесят внук вернулся. Клавдия нервно соскоблила ногтем пленку в нужных местах на двух билетах и воскликнула: — Тридцать рублей выиграла по одному! Другой — пустой. Иди еще два билета возьми. Мальчик психанул: — Ба-а, может, я завтра схожу? Дождь на улице. Грязюка. — Нет! Сегодня! — зарычала медведем баба. — Говно привиделось — это знак свыше. Куй железо, пока горячо. Собирайся. Если много выиграем, я с тобой поделюсь. Не только на конфеты будет. Велосипед куплю… — Ладно, — Димка взял тридцать рублей и снова отправился в путь. Через час он вернулся. Клавдия нервно, возбужденно, с красным потным лицом, с дрожью в пальцах-сосисках проверила билеты. — У-у, со-ба-ки! Только пятнадцать рублей. — Ба-а, я не пойду! Устал грязь месить! — Пойдешь! — Я весь мокрый. Дождь на улице. — Пойдешь! Как твои любимые футболисты из «Заката» в любую погоду мяч пинают? И в дождь, и в снег. — Не «Закат», а «Зенит». Им деньги большие платят, ба-аб. — Сон в руку. Чую я, Дим, что выиграем. Иди, внучок, иди. Разрешаю тебе самому билет проверить. Если не выиграешь, то принесешь пустой билет. Покажешь. Отчитаешься. — Ба-а! — Чо «ба-а», чо «ба-а»? Ты же спортсмен, футболист. Иди. Это спортивная ходьба. Не буди во мне дракона! Звездуй по-светлому! Димка отправился в Сбербанк уже в третий раз. Он взял один билет за пятнадцать рублей. Добросовестно сошкрябал ногтем в положенных местах — пусто, без выигрыша. Пацан расстроился. Зашел за здание Сбербанка. Достал из потайного кармашка сворованную у деда сигарету и закурил. В сердцах пнул пластмассовый баллон из-под пива, что валялся рядом. Баллон полетел к глухому высокому забору долгостроя. Падая, поднял легкой воздушной волной небольшую голубоватую бумажку, похожую на конфетный фантик. Димка из любопытства подошел и поднял «фантик». У него в пальцах мокла от дождя, трепетала на ветру бабочкой тясячерублевая купюра. В сдвинутом, ошалевшем состоянии мальчишка взял на всю тысячу шестьдесят шесть лотерейных билетов. Все (видно, без беса не обошлось) оказались пустыми. Клавдия неделю ругала, пилила и даже материла внука: — Сон был в руку (матерщина)! Ты должен был принести эту (мат) тысячу мне! А ты все пробазарил (отборный многоэтажный мат), х…болист!.. Весна 200… г. 34. Горбунья Вчера был в литературной студии при редакции губернского журнала. Читали и обсуждали стихи. Критиковали слабые, хвалили удачные… После сбросились по сотке (сто рублей). Два поэта сбегали в ближайший магазин — прикупили продукты и спиртное. Поэтессы быстро нарезали тонкими ломтиками колбасу, сыр, хлеб… Накрыли «шведский» стол. Выпили по первой, потом по второй, по третьей — расслабились. Кто-то разрумянился, кто-то побледнел. Потом всей компанией — и мужчины, и женщины — пошли курить в мужской туалет. Я задержался в туалете — после первой сигареты закурил вторую (когда выпью, дымлю больше) — и услышал тихий приглушенный разговор двух наших поэтесс. — Она редкая сучка! — сказала первая. — Не сучка, а сука! — уточнила вторая. — Да, согласна, сука. При живом муже, который ее любит и балует, крутит хвостом. Путается со всеми подряд. То с художником, что ей книжку оформлял, то с музыкантом, что пишет песни на ее стихи… Редкая лярва эта… И тут было названо ЕЕ имя. Имя женщины, которой я болен уже несколько лет. Меня впереди, после окончания студии, ждала дорога до родного Рабово. Неблизкий путь с пересадками в густых сумерках. Но я, нарушив свой принцип: не пить много перед дорогой, принял на грудь лишнего. Меня развезло. Я, как говорят алкаши со стажем, до дома добрался на «автопилоте». Ночью в постели меня то знобило и бросало в холодный пот, то становилось невыносимо жарко и душно, не хватало воздуха. Всю ночь снилась изматывающая, изнуряющая душу хрень. Под серое унылое утро привиделась ослепляющее яркая картина: пустыня, белое пятно солнца на выцветшем небе. Едет моя старая знакомая горбунья на верблюде. Едет-едет-едет старушка, подслеповато глядя на горизонт, где виднеются три березки. Да, березки! Не пальмы. Мгновение спустя уже я на верблюде. Старушка куда-то делась. Я держу путь на три березки. Опускаю глаза на горб животного, потом их устало поднимаю и вижу, что «белоногих» впереди уже нет. Испуганно оглядываюсь по сторонам. Деревья слева. Ловко поворачиваю верблюда влево, словно всю жизнь на двугорбом проездил. Еду-еду-еду. Отвлекся, смахивая рукой пот со лба, льющийся в глаза, разъедающий их, гляжу: березок нет. Они уже позади меня, а подо мною горбатая старушка. Она резво семенит ножками-спичками по золоту барханов, поворачивая головку, скалится, обнажая несколько черных, гнилых зубов, косит на меня мутным от бельма глазом… На миг сознание меня покидает и уже я скачу жеребцом по пустыне, а на мне сиди горбунья. Она ухарски размахивает фанерной, выкрашенной в серебристый тон саблей и деревянным маузером черного, угольного цвета. На головке наездницы не блеклый желтый платок, а ярко-алая косынка. Под птичьим носом старухи — пышные чапаевские усы. Она тонким сиплым голосом, как у звезды эстрады Витаса, вопит: «Уря-я-я!». Потом начинает пронзительно, по-разбойничьи свистеть в два пальца… Монотонно и занудливо запикал китайский будильник. Я проснулся. В ногах скомканные простыня и одеяло. Подушка на полу. Мои майка и трусы влажные от пота. P. S. Кому-то снятся большие говенные кучи (Клавдии), а кому-то (мне) — горбатые старухи. Какие головы — такие и сны… Весна 200… г. 35. Стервозная дура Сегодня суббота. Включил телевизор. По телеканалу «Россия» шел «Субботний вечер» — маленький российский карнавал попсы. Хриплым голосом пела (словно пропитым и прокуренным) похожая на потасканную мартовскую кошку француженка S... Вслед за нею вышел вечно юный, сладенький, как пирожное, пожилой мальчик — N… Они пели о любви. Она — на французском, он — на русском. Любовь?! А есть ли она? Я выключил телевизор. Один мой давний знакомый — редкий циник, поэт-пародист — Кирюша Кривохрен как-то выплюнул: «Любви нет! Есть только похоть и товарно-денежные отношения…». Я с ним отчасти согласен. В девяносто девяти процентах любовь и дружбу заменяют отношения по принципу: «Ты — мне, я — тебе». Большинство людей всю жизнь довольствуются «суррогатными» отношениями. Они их из-за своей душевной сердечной слепоты считают «настоящими». И только редкие чудаки могут сказать на закате жизни: «Я умел любить и дружить!». Уже несколько дней мой брат Иван Великанов в большой печали. Намедни его подружка Галя Галушко призналась: — Я, Вареник, люблю другого. Он недавно поступил к нам в интернат. Зовут Георгием, Жорой. Я втюрилась по уши. Это, Вареник, любовь до гроба. Нам в интернате даже обещали дать отдельную комнатку, если мы будем себя хорошо вести… — А как же я, Галушка? — Ты, Вареник, найдешь себе другую и будешь с нею счастлив. Прощай навсегда! Я больше к тебе приходить не буду… Приблизительно такой состоялся у них — Ивана и Гали — разговор. Брат, горестно, глубоко вздыхая, глядя на меня бездомным псом, пожаловался: — Не везет мне с женщинами, Андрей. С Жанной Баклажановой, например… * * * Циник Кирюша Кривохрен делил женщин на четыре категории. Порядочные — их катастрофически мало. Вымирающий тип. Они добрые и мудрые, не корыстные. Как правило, домоседки и хозяюшки. Вторая категория — дуры. У них все кувырком и наперекосяк и на работе, и дома, и в личной жизни. Третьи — стервы — они самые беспринципные и потому самые удачливые. Эти готовы идти по головам для достижения цели: денег, положения в обществе, богатого мужа, любовника… Но самый тяжелый случай — это четвертая категория — стервозные дуры. Они ломают, пускают под откос не только собственную жизнь, но и отравляют существование своим близким: родственникам, коллегам по работе, подругам (если таковые есть), мужчинам, с которыми создают семьи, детям и внукам… Жанна Баклажанова — стервозная дура в чистом виде. К этой же категории можно отнести и Клавдию — дочь моей соседки по коммуналке бабушки Насти. Начну с того, что Жанне надо было родиться в Италии, потому что она, кроме вареных макарон, ничего толком не могла приготовить. У нее вечно подгорало или недожаривалось, переваривалось или оставалось сырым, случались частые пересолы. Она была из тех женщин, которым легче сделать мужчине минет, чем омлет. Как говорят в народе: «Маленькая собачка — всегда щенок». Баклажанова в пору сожительства с моим братом была похожа на маленькую и худенькую девочку-подростка. Во всяком случае со спины или если на ее глядеть издали. Сколько ей было лет, я не знаю. Она как-то говорила Великанову: «Если бы я не сделала аборт и стала матерью в пятнадцать годков, то мой сынок (или дочка) был бы тебе, Ванька, ровесником»… Получается, Баклажановой было лет сорок пять, когда она сожительствовала с братом. Я напрямую не спрашивал у нее о возрасте. В этом вопросе я солидарен с Кирюшей Кривохреном, который как-то обронил: «Интересоваться у дамочки, сколько ей лет, — это то же самое, что у джентельмена спрашивать, сколько сантиметров его «хобби». Как-то раз Иван Великанов пригласил меня с мамой на свои именины. Тогда он, бедолага, жил у Жанны. Ее дома не оказалось. Брат, извиняясь, пряча глаза, накрыл скромный стол: вареная картошка, соленая килька, квашеная капуста и конфеты со сладкой водою. — Жанна вот-вот должна прийти. Она обещала, — говорил он, рассеянно глядя в окно. В маленькой однокомнатной запущенной квартире был беспорядок. На диване, когда мы зашли, возвышалась гора несвежего и мятого белья. Иван поспешно его свалил в шкаф. На кухне в раковине кисла и источала дурной запах грязная посуда, в углу стояло и лежало несколько пустых бутылок из-под пива и водки, в горшке с засохшим кактусом белели папиросные окурки… — Твоя Жанна редкая засранка и ты, живя с нею, таковым становишься, — констатировала мама. — Ма-а, все нормально! — бодрился брат. Мы втроем немного посидели, попили чаю с конфетами, поговорили. Я и мама уже начали собираться домой, когда появилась Жанна. От нее за версту разило табаком и спиртным. Бросив недобрый замутненный взгляд на именинный стол, она рыкнула на Ивана: — Ты что, идиот, не мог колбасы, сыра купить? — Я денег не нашел, — оправдывался он. — А, да, забыла. Я их с собою взяла и они уже тю-тю, кончились. Ни фига не осталось, — повернувшись к свекрови, Баклажанова грубо потребовала: — Мать, дай денег! Жить не на что! А-а? — Денег я не дам. Ты их пропьешь. Схожу и куплю вам продуктов. Мы с мамой пошли в магазин. Взяли на все те небольшие деньги, что при нас были, крупы, макароны, сахар, консервы… Возвращаясь, увидели следующую картину. На балконе второго этажа стояли Иван с Жанной. Она в пьяной истерии отвратительно материлась и, подпрыгивая мячиком, хлестко лупила Ивана по лицу. Он, наклонив голову, тупо молчал. Лишь изредка промямливал: — Ну больно же! — Идиот! (Матерщина.) — вопила Баклажанова. — Сынок! — обратилась ко мне мама. — Иди забери его, несчастного. Пусть он снова с нами живет, чем с этой дурой и карикатурой… «Дура и карикатура!» — коротко и, главное, точно охарактеризовала мама горе-невестку. И в самом деле, Жанна — маленькое, злобное и порочное рыжее существо с птичьим крючковатым носом. Все ее тощее тельце в веснушках. Голос от дрянной водки и крепкого «Беломора» глухой и хриплый, как у портового грузчика. Да и матерится она, словно отпетый уголовник. * * * — С твоей бывшей сожительницей Жанной даже ангел не смог бы жить, не смог бы ее терпеть. А если бы смог, то со временем превратился бы в черта! — сказал я сникшему брату. Он улыбнулся глазами. — И насчет Гали Галушко не расстраивайся. Будет и на твой улице праздник. Когда-нибудь… Весна 200… г. 36. Море и речушка Юность живет ожиданием «завтра», будущего, ожиданием чуда. Старость ворошит «вчерашнее», прошлое. Я тоже живу былым, практически отмечтался. Не жду чуда, не верю в манну небесную. Устал ждать и верить. Ночью, когда не спится, одиноко лежа в кромешной темноте и гулкой тишине, время от времени нарушаемой жужжанием холодильника на кухне, я, пафосно выражаясь, листаю книгу своей жизни. Она, увы, с каждым днем, месяцем, годом становится все толще и толще. Когда-нибудь ее допишет господин Фатум и последней главой этой книги станет моя смерть. У каждого из нас своя книга. У одного она подобна детективу, у другого — женскому роману, у третьего — похожа на сборник анекдотов, у четвертого типа бухгалтерской книги… У каждого человека — уже умершего, живущего и еще не родившегося — своя история. А к чему я все это написал? Просто слова лились на бумагу. Бессонными ночами я частенько вспоминаю маленький курортный городок в Бессарабии — Аккерман. В нем я прожил сорок один год, но, признаться, не прикипел, не прирос к нему — городку, к Бессарабии. Чувствовал себя гостем. И, видимо, не зря. По ряду причин мы: я, мама и брат вернулись в Россию. И пока не жалеем. Во всяком случае, здесь, в России, титульная нация — русские и нам никто не тыкает в лицо: «кацап», «москаль»… Некоторые новые российские знакомые округляют глаза, недоумевают: — Как это так? Уехать от теплого Черного моря в холодную и немытую российскую глубинку?.. Море я так по-настоящему и не полюбил. Может, потому, что у меня слово, понятие «море» вызывало карикатурные ассоциации. «Море» — и сразу картина: пляж, а на нем плотными, нестройными рядами лежат, словно шпроты в банке, человеческие тела. Тут и тщедушные, бледно-голубые, как советские цыплята («синие птицы»), и заплывшие жиром, розовые, словно хрюшки, человеки. Я тоже не Аполлон, но, наверное, чуточку эстет и поэтому не мог без внутреннего содрогания и отторжения глядеть на этот уродливый массовый стриптиз. На диких пляжах (вдалеке от пансионатов и санаториев) было меньше людей — посвободнее, но тут сорили. Мусор же не убирался годами. Еще при слове «море» я вспоминаю электричку, на которой аккерманцы добирались до побережья и обратно в город. Обычно ее штурмовали, словно крепость. Неимоверная давка. Пляжники потные, нервные, уставшие от целого дня, проведенного на солнце. Одному ткнули локтем под ребра, другому — отдавили ногу, третьему — помяли пляжную шляпу, четвертого — послали… Кто-то хватается за сердце, кому-то не хватает воздуха, кто-то теряет сознание… Коротко — ад земной. Море мне нравилось майское. Отдыхающих еще нет. Пансионаты и санатории приводятся работниками в порядок: уборка территории и пляжа, покраска, побелка, ремонт и тому подобное. Море кажется свежим, отдохнувшим за зиму от людей. Оно бодряще холодное, а солнце — ласковое, еще не злое. Мы с мамой в последние годы редко ездили на море, а брат Иван Великанов частенько. У него было много свободного времени и бесплатный проезд. К сентябрю брат становился шоколадным от загара. В России, в Сугробске нам море заменила маленькая и мелкая, но быстрая и чистая скромница-речушка Сугробка. Признаюсь, за те три неполных года, проведенных в Сугробске, я полюбил эту речушку. Полюбил вековые ветлы, что росли на ее берегах, камыши, буйное разнотравье, соловьиное соло и лягушачий хор, величественную Лысую гору на горизонте… Мы с братом частенько в теплую пору делали вылазки на речушку. Он рыбачил, я — пил пиво. Много купались. Бывало, разводили костер и пекли картошку. В том тихом безлюдном месте, где мы отдыхали, вода была по пояс. Дно, как на ладони, песчаное, упругое. Одной сугробовской знакомой я как-то признался, что Сугробка мне милее Черного моря. Она мне не поверила, а зря. Я не темнил, не фальшивил. Сказал то, что чувствовал. Мои деды и прадеды жили в этом маленьком городке на этой маленькой речке. Может, это генная память? Раз меня радовали и умиляли эта пышная летняя зелень и зимняя белизна снегов. Весна 200… г 37. Ден Денис Козаченко (я его звал Деном) вымахал выше всех — был самым рослым из пятерых друзей. Он — юный длинноволосый романтик — чистый и светлый, с годами стал жестким и где-то даже циничным бритоголовым дядькой. Я думаю, причина данного перевоплощения — первая несчастная, безответная любовь. В восьмом классе он стал встречаться с одноклассницей. Я точно не знаю, что там произошло. По всей видимости, ей, девочке, за которой ухаживал Ден, надоели молчаливость, вздохи и рукопожатия кавалера. Ей хотелось большего — ну, допустим, страстных поцелует у горячей чугунной батареи в темном подъезде, а этого все не было и не было. Первая любовь редко бывает счастливой. Они болезненно расстались. Я последний раз видел первую любовь Дениса незадолго до отъезда в Россию. Ей уже было под сорок лет. Толстая и вульгарная баба. Да, в кого только не превращаются милые стройные школьницы с годами. Ден, после расставания с девочкой, впал в глубокую и долгую депрессию. Он более года просидел, никуда не выходя, в своей комнате, словно монах в келье. Школу он, естественно, не посещал. Некоторое время спустя поступил в ПТУ (бурсу) на столяра-плотника. После окончания училища долгое время столярничал в разных городских конторах. Трафаретно выражаясь, у Дена — золотые руки. За что бы он ни брался — все у него ладилось, спорилось. Он лучше всех во дворе бренчал на гитаре, довольно хорошо рисовал и резал по дереву. После распада Союза он перепробовал массу занятий и профессий. Там, где другой человек добивается мастерства годами, Козаченко хватало нескольких месяцев. За десять с небольшим лет мой приятель сменил несколько занятий: клал кафельную плитку, делал камины новым украинцам, имел свою небольшую фирму по продаже импортной парфюмерии (в кризисный 1998 год Ден обанкротился), был директором магазина бытовой техники, торговал на морском побережье пляжными принадлежностями, изготовлял и продавал домашнюю колбасу… Возможно, я что-то упустил. Ну, да ладно. Что касается его личной жизни, то она не сложилась из-за самого же Дениса. Когда ему было немного за двадцать, его познакомили — на первый беглый взгляд — с миленькой и домашней девушкой Тамарой. Они поженились. Родили девочку, чуть позже мальчика. Когда Тамара была беременна мальчиком, Ден открыто и нагло загулял со смазливой барышней нетяжёлого поведения. Был момент, когда он хотел даже уйти из семьи. Тамара его измену, загул молча проглотила, но, видимо, затаила обиду. Прошло время. Денис находился в длительной командировке (где-то вдалеке от дома делал камины) и тут Тамара тоже бросилась во все тяжкие…Когда Козаченко вернулся из командировки, жена спокойно сообщила ему о своей измене. Они расстались. Во время развода Ден хотел отсудить у Тамары не часть дома, не имущество, а обоих детей. Не всякая мать так любит своих чад, как это умел Козаченко. И только за эту сильную, трепетную любовь, на мой взгляд, можно было бы многое простить Дену. Его метания в отношении профессий, его слабость к женщинам, сложный характер, да мало ли еще что. После развода, с Деном осталась жить дочка Карина, с Тамарой — сын Николай. Мой друг вкалывал по двенадцать часов в сутки без выходных только для того, чтобы дочка ни в чем себе не отказывала. Не забывал Козаченко и сына: покупал ему вещи, игрушки и сладости с фруктами… Так сложилось, что мы с Денисом приблизительно в одно время женились и в один и тот же год развелись. Перед отъездом в Россию я с Деном более года плотно общался: мы ходили на пиво, ездили на море, много-много говорили о жизни, женщинах, о важных мелочах. Мы друг друга поддерживали в трудное для нас обоих время. После измены Тамары мой друг снова, как в юности, впал в глубокую и длительную депрессию. Но теперь она была не тихая и вялая, а с налетом агрессивности. Его кидало в крайности. То он грубо ругал бывшую жену, то признавался мне, что до сих пор его к ней тянет, и он хочет с нею сойтись, начать все с чистого листа… Чем сейчас занимается Денис? С кем живет? Что его тревожит и мучает? Кого любит? Не знаю. Я каждое лето собираюсь съездить в Бесарабию, но все как-то не получается. Весна 200… г. 38. Едоки арбузов Завтра 1 Мая! Сегодня прохладно и ветрено. Вчера было тепло, солнечно. Погода непостоянна, переменчива. Несколько дней назад ночью неожиданно завьюжило — выпал обильный тяжелый и влажный снег. Он лег белым холодным покрывалом на траву, на только-только начинающие пробиваться из упругих почек робкие ярко-зеленые листочки. Ветки деревьев, не выдерживая белого груза, с треском ломались и падали на теплую землю, покрытую тающим снегом. По всей снежно-земляной жиже вяло и сонно ползали дождевые червяки. Странное, гротескное, признаюсь, было зрелище. После зимы — холода и тьмы — наступила весна: свет и тепло. Жители Рабово, да и не только его — всей России-матушки вылезли из душных квартир и домов и рассыпались разноцветным горохом по огородам, садам и дачным участкам. Трудятся: копают, удобряют, сажают… Сельские жители и дачники чем-то похожи на хомячков. Все лето они трудятся, а осенью собирают урожай: овощи, фрукты, картошку. Делают консервации. А потом все это в погребок — в погребок. «Хомячки» делают запасы на зиму. Мой брат Иван Великанов тоже «стаханит». Лопатой («вножную») докапывает огород. После мы с ним начнем сажать картошку и все остальное. А осенью, если будет урожай, все выращенное спустим в погребок. Мы тоже хомячки. Вчера был у своих. Зашел в комнату брата. Он после дневных работ в огороде рисовал фломастерами. Признаюсь, забавное зрелище: двухметровый верзила, держа в мощных, здоровенных ручищах тонкие цветные палочки фломастеров, высунув кончик языка и мурлыча себе что-то в нос, выводит на белом листе бумаги нечто карнавально-яркое и по-детски наивное, примитивное. Когда Иван закончил рисовать, я глянул на его работу. Увидел следующее. Три красномордых толстяка в семейных трусах, сидя полукругом на маленьких, но крепких табуретах, поедают арбузы. У их ног несколько больших пудовых ягод. Но, видимо, уже съедено много: кругом валяются зеленые корки, россыпи черных семечек. В руках троицы огромные ножи. Арбузные же ломти напоминают куски свежего, кровоточащего мяса. Иван хорошо передал атмосферу арбузной («мясной») трапезы. Преобладающие тона в рисунке — красный с зеленым. В этом цветовой контраст. — Картина называется «Едоки арбузов», — тихо прокомментировал из-за моего плеча Великанов. Еще проживая на Украине, я как-то взял в библиотеке альбом с репродукциями Ван Гога. Мы вместе с братом его долго и вдумчиво рассматривали. Я еще тогда сказал Ивану, что одна из самых моих любимых картин великого голландца «Едоки картофеля». Мол, мне нравится темная, бедная на краски тональность картины. Угрюмые, грубые, топорные лица «Едоков картофеля». Что они — едоки — на людей не похожи. Есть в них что-то от упырей, животных, подземных жителей. Мол, их души и сердца так же грубы и темны, как и внешний облик, как та обстановка, что их окружает. А впрочем, они не виноваты, что такие. Время было такое. Девятнадцатый век. — Мне нравится, Князь, рисунок. В нем есть настроение, — похвалил я брата. Он, краснея, улыбнулся, показав отсутствие переднего резца. — Я запомнил, что ты, Спиноза, говорил об одной картине Ван Гога. Решил нарисовать что-то подобное. — Тебе это удалось, Князь. И в наше время, в XXI веке, не перевелись едоки картофеля и арбузов… Весна 200… г. 39. Май На улице ласковый май. Написал и сразу вспомнилась группа «Ласковый май». Очень популярная среди подростков приблизительно два десятилетия назад. Тогда серьезные музыканты считали эту группу, точнее, то, что она исполняет, большим примитивом. Сегодня, сейчас творчество «Ласкового мая» на фоне современной дегенеративной попсы (моя мама говорит в шутку не «попса», а «жопса») выглядит классикой жанра. Впрочем, это было отступление. Сделаю еще одно о майских котах. Раньше коты и кошки справляли свадьбы в марте. В этом же году — в мае. Аномалии в природе порождают ненормальности в поведении животных, да и людей тоже. У соседа моих родных Славы Труду загуляла молоденькая кошка. Коты сбежались со всей округи. Многих «женихов» я раньше не видел. Тут и сиамский с подпалинами, и черный, как смоль, и белый — «блондин» с голубыми глазами, и несколько помойных котов — нелепых расцветок, зачуханных и блохастых… Все они, в том числе и помойные, хотят любви и ласки. «Невеста» от внимания дюжины «женихов» очумела: закатывает глазки, катается с боку на бок, призывно мурлычет. «Женихи» поют на разные голоса серенады, устраивают дуэли. У них, как и у кошки, тоже больной, очумелый видок. Одним словом, паранойя. (У Николая Носкова есть песня про «любовную паранойю».) Мое сердце и душа в относительном покое. Я давно ничего не жду. А вот плоть, тело прошлой ночью загуляло, словно майский кот. Мне приснилась ОНА. У нас было ЭТО. Как бокал наполняется вином, так я наполнился давно забытыми радостью и восторгом. Эмоции были пронзительными, вулканическими. В кульминационный момент я пробудился. Ночь. В комнате мгла. Я один в постели. Долго не мог, не хотел поверить в то, что это всего лишь сновидение, а не явь. С чувством сосущей тоски я снова забылся сном. Эта ночь, эта близость с НЕЙ, путь призрачная, эфемерная, рожденная весной, мне очень дорога. Есть бесконтактное каратэ. У меня случилась бесконтактная близость. Шутка. Горькая шутка. ОНА и раньше мне снилась, но ЭТОГО не было. Лишь короткие сновидения, в которых ОНА меня сторонилась, не замечала, пренебрегала мною. P. S. Бессарабский знакомый поэт-сатирик Кирюша Кривохрен как-то сказал: — Молодого мужчину тянет к женщине, зрелого — к женщине на диване, пожилого — к дивану. Пройдет еще несколько лет, и я прирасту к своему одиночеству. Мне, возможно, не захочется делить свой диван с женщиной. С чужой женщиной. Весна 200… г. 40. Будка для Царя Уже было темно, когда я вышел из электрички на станции Рабово. Я возвращался из Губернска, где сегодня собирались студийцы-поэты. Мы по обыкновению читали стихи, делали их разбор, потом сбросились и накрыли стол, выпили. Я шел шаткой, нетвердой походкой домой в кромешной тьме. Время от времени дорога освещалась проезжающими машинами. Совершенно спонтанно решил заглянуть по пути к своим родным. Войдя во двор, малость опешил, испугался. Из вечно пустующей собачьей будки высунулась темная кудлатая голова. Мгновение спустя она спряталась. И тут тишину разрезал, словно нож яблоко, тонкий и пронзительный, с нотками истерии собачий лай. — Царь! Ты чего это? — узнал я любимчика моих родных, — ты что бросаешься на своих? Пес размером с крупного кота выскочил из будки и усердно замахал хвостом. Стал, радуясь, прыгать на меня, пытаясь лизнуть руку. Мама вскипятила воду и заварила мне чай. Поставила на стол тарелку с еще теплыми пирожками. — Бери, сынок, ешь. Вот эти с картошкой, а эти с куриной печенкой. Я проголодался. Уминая пирожок за пирожком, запихивая их в рот, словно дрова в печку, поинтересовался: — Что? Царь Блоходав 1 живет в будке? — Нет. Это первый раз он в нее залез. Вечером накрапывал дождь. Пес прибежал весь мокрый и какой-то несчастный. Сирота сиротой. Я его пожалела и бросила ему пирожок с мясом в будку. Он залез в нее и просидел до твоего прихода. Часа четыре, наверное. — Может, привыкнет и будет в будке жить? — говорил я, жуя пирожки, — как у всякого порядочного пса, будет свой уголок. А то Иван Великан мастерил ее, будку, долго, мучился, переделывал, улучшал. Зря, что ли? И в самом деле, брат не с первой попытки возвел «дворец» для Царя. Иван для начала собрал немалую кучу стройматериалов. Тут был и лист фанеры — старой, посеревшей, с трещинами и «волной»; кусок ДСП с зеленым пластиковым покрытием; несколько старых заборных штакетин; лист ржавого железа (крыша для «дворца»), да мало ли еще что… Наконец будка была сделана. Брат Иван решил совершить маленькую, но важную, на его взгляд, церемонию. Он поймал соседского рыжего кота-подростка и на глазах пса аккуратно его забросил внутрь собачьего жилища (люди, когда въезжают в новую квартиру ли, дом ли, частенько первым делом впускают в жилье кошку). Царь котов на дух не переносил и, следовательно, бросился вслед за рыжим недругом. Иван не известно, для чего (он сам потом не мог объяснить свой поступок), закрыл отверстие в будке металлической крышкой от бака-выварки. И тут (со слов брата) послышались душераздирающие звуки: урчание, лай, переходящий в визг, шипение (дюжина змей позавидует) леденящие кровь ведьмины завывания, шум борьбы, треск и скрежет… Несколько секунд спустя будка завалилась на бок и из образовавшейся щели выскочил пулей повизгивающий, с поджатым хвостом Царь, за ним взъерошенный кот с вылупленными глазами. Я был прав, назвав собаку Блоходавом. В Кошкодавы Царь явно не годился. Даже кота-подростка не одолел. Бежал зайцем с поля боя. Брат Иван с горем пополам смастерил новую будку. Ту, в которой сегодня ночью я увидел Царя. Будка получилась просторная и высокая. В ней мог бы жить большой пес. Если бы Блоходав 1, бродяжничая по селу, пригласил бы к себе в гости во «дворец» стайку бездомных псов, живущих, плодящихся и умирающих на одной из нескольких больших помоек Рабово, то под крышей его жилья уместилось бы с полдюжины таких же мелких, как хозяин, блоходавов. Может, любимчик моих родных когда-нибудь привыкнет к своему «дворцу» и будет меньше странствовать по селу и его окрестностям? Весна 200… г. 41. Сказка о любви Весь день было тепло и светло от ласкового майского солнышка (хотел написать «солнце», но в мае именно «солнышко», а не жаркое, порой злое летнее солнце). Вечер тоже был хорош. Я шел из продуктового магазина, когда увидел на лавочке у дома мою соседку по коммуналке — бабушку Настю. Она сидела в длинном пестром старомодном платье. На седовласой, чуть трясущейся головке — темный платок, из-под которого высовывался лист лопуха (кто-то Анастасии Афанасьевне посоветовал прикладывать лопух при головных болях). Я поздоровался. Она кивнула головой и указала рукой на место рядом с собою. — Как дела, бабушка Настя? — сказал я дежурную фразу и присел рядом, закурил сигарету. — Умирать мне пора, Андрей, а не хочется. Все у меня и вездя болит, силов нету, а жить хочется. — Раз хочется, значит, надо жить. — Ну, эта сколько Бог мне отмерит… Перекладывая из одной ссохшейся ручки в другую белесую палку-клюку, что спилил ей и очистил от зеленой коры за двадцать рублей правнук Димка, Анастасия Афанасьевна вспомнила своего непутевого мужа Яку Кобеляку, сына, умершего ребенком (мальчику шел четвертый год), поругала взбалмошную дочь Клавдию и безалаберных внуков с правнуками. Неизвестно откуда достала небольшой плод бордового граната и попросила его «располовинить». Я разломил фрукт. Пальцы окрасились соком. — Бери половину, Андрей, — угостила она. Помолчав, бабушка Настя поведала мне очередную свою «сказку». Я ее передам своими словами, ибо рассказчица, как уже говорилось, путает женский и мужской род, а среднего — совсем не знает. Мне по ходу истории часто приходилось уточнять и переспрашивать. Итак, «сказка»! Моей троюродной сестре Гале повезло. За ней ухаживал Коля. Она была очень хороша, он тоже симпатичный. Многим девчатам нравилась его бравая и легкая походка. Он ушел служить в армию на четыре долгих года. Тогда служили дольше, чем сейчас. Она его верно ждала. Часто писала письма. На танцы не ходила. Ухажеров отваживала. Твердо говорила им «Нет!». Ничто не могло разрушить их большую и светлую любовь. Даже пуки! (Тут я долго уточнял, что это такое. Анастасия Афанасьевна издала губами звук «П-п-р-р» и я догадался, о чем речь.) Итак, еще до ухода Николая в армию он помогал копать картошку Галиным родным. Они были вдвоем на огороде, когда жених ухарски взвалил себе на плечо полный мешок с урожаем и тут не к месту — «пук». Они оба покраснели и долго напряженно молчали, не глядя друг другу в глаза… За месяц до службы Коля пришел к Гале. У ее родителей был хороший, ухоженный фруктовый сад. Ветки яблонь ломались от обилия сочных, наливных плодов. Хозяева, чтобы сберечь деревья, ставили под ветки подпорки-палки с «рогаткой» на конце. Девушка захотела угостить парня плодом любви. Потянулась на цыпочках за самым-пресамым. И тут от ее усилий раздалось: «пук!». Жених с невестой снова, как и в первый раз, залились алой краской и долго боялись посмотреть друг на друга… Коля ушел в армию. Вернулся. Они сыграли свадьбу. У них родился мальчик, потом девочка. Два эти пука они вспоминали смеясь, не краснея. Дети выросли, обзавелись семьями. Родились внуки. Жить бы да жить Коле с Галей, радоваться детям и внукам, но он тяжело заболел. — Если я, Галя, раньше тебя умру, ты за мною уйдешь тоже? — спрашивал он. Она деревенела. По лицу, искаженному болью, текли слезы. Молчала. — Если бы ты раньше меня ушла, то я бы купил ящик-два водки и пил бы до тех пор, пока не сгорел бы, — тихо говорил Николай, лежа в постели с восковыми лицом и руками, — Не смог бы без тебя, Галя, жить… Прошло немного времени. Она поехала на велосипеде в поле на дневную дойку коровы и ее сбила машина. Ухарь скрылся, не оказав помощи. Галя лежала в дорожной пыли и медленно умирала, истекая кровью. Врачи потом сказали, что если бы помощь была оказана сразу, то, возможно, ее бы спасли. Галю похоронили. Коля сдержал свое слово. Он пил водку, как воду, хотя раньше был трезвенником. Ну, выпивал по выходным и праздникам. Мужик же. А так знал всегда меру. А тут как с цепи сорвался. За неделю до Колиной смерти я видела его распластавшимся в траве за магазином. Он был мертвецки пьян. На его отечном, лиловом лице совокуплялись две зеленые мухи. Вот так-то. Вот такая любовь. Бывает она все-таки. Редко, но случается. Не всем это дано — любить… А моя покойный муж Яшка? Тьфу! Кобелино такой-сякой, пьянь… — бабушка Настя матернулась, поправила лопух на голове, сплюнула семечку граната и твердо, начальственно мне сказала: — Иди, Андрей. Я хочу посидеть один. Иди, дорогая. Весна 200… г. 42. Цветные коты Конец мая. Цветёт сирень. Мама ходила за хлебом и по пути нарвала большую охапку белой и светло-фиолетовой сирени. Пахучие букеты во всех комнатах дома моих родных. Но, правда, к аромату сирени примешался еще и запах рыбы. У моих сегодня рыбный день. Мы с братом Иваном доедали жареную треску, когда он мне сообщил, что хочет кое-что показать. Глаза его загадочно блестели, рот растягивался в улыбку. Он был возбужден. Мы зашли в его комнату. — Ну что, показывай, Князь. — Картина, Спиноза, называется «Майские коты». — Не мартовские, а майские? — переспросил я. — Да, Андрей, майские! Они в этом году гуляли в мае, а не в марте. — Не томи, Князь! — Показываю, Спиноза! — Иван подал мне в руки по-детски яркий и пестрый фломастерный рисунок. Я когда-то давно говорил брату о спектре цветов. Чтоб он их лучше запомнил, четко повтори несколько раз предложение-подсказку, которое знает каждый, даже начинающий, художник. Вот оно: «Каждый (красный) охотник (оранжевый) желает (желтый) знать (зеленый), где (голубой) сидит (синий) фазан (фиолетовый)». Иван, видимо, сказанное мною запомнил и нарисовал на днях следующий сюжет: на крыше дома шесть котов и кошка. Разноцветные. На вершине покатой крыши, словно на острие пирамиды, стоит на двух задних лапках, как человек, зеленая изящная кошка. Одной передней лапкой она подбоченилась, в другой — держит сигарету, вставленную в длинный мундштук. Что-то в ней есть от кокетливо-капризной дамочки времен нэпа (20-е годы ХХ века. Советская страна). Слева от нее три кота: желтый, оранжевый и красный, справа тоже три: голубой, синий и фиолетовый. Красный ухажер неистово бьет лапой в бубен, оранжевый — наяривает на гитаре, а желтый, по всей видимости, — поет серенады о любви. Голубой кот, встав на колени, протягивает даме сердца трех мышей. «Лакомство» он держит за хвостики. Синий воздыхатель держит в лапе, словно цветы, три рыбки. А фиолетовый, увы, хочет застрелиться. Он направил дуло пистолета себе в грудь. И вот-вот раздастся смертельный выстрел… Над котами светлое небо, полная улыбающаяся луна и звезды, словно снежинки, разных немыслимых конфигураций. — Мне, Князь, нравятся твои цветные коты, — искренне похвалил я брата. — Не цветные, а майские, — уточнил он. — Влюбленный человек мог бы такое нарисовать, — вслух подумал я. Глянув на Ивана, испугался. Он был пунцовый. На его лбу выступили капельки пота. — Что с тобой? — Ты прав, Спиноза, я влюбился, — с трудом выдавил он из себя. — Я-я недавно ей помог донести сумки с продуктами. — Кому «ей»? Гале Галушко? — Нет. Ее зовут Таней, как нашу маму. Она работает нянечкой в интернате для душевнобольных. — И что? — Она меня пригласила в гости. И я позавчера был у нее. Купил зефир в шоколаде на свои «конфетные» деньги. Мы с ней пили чай и говорили-говорили. Когда я уходил, она — Таня — меня поцеловала в губы… — В губы? — глупо переспросил я. — Да. В губы, — брат дрожал. — Успокойся, Князь. Успокойся. Присядь. А лучше приляг. Он послушно лег на диван. Я его, как дитя, укрыл одеялом и вышел из комнаты. Мама сидела поникшая, сумеречная в темной кухне без света. Услышав мои шаги, подняла глаза и тихо сказала: — Твой брат заболел. Его надо положить в больницу. Отвезешь его, сынок? — Да, мама, отвезу. Собери его вещи. Не переживай. Все будет нормально… Весна 200… г.
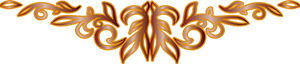 |
|
Категория: Проза › МВ | Просмотров: 1191 | Дата: 21.12.2017 | |
| Всего комментариев: 0 | |

