
Дневник А.З. Часть-4 |

43. Красный круг Мой брат Иван обычно заболевает после сильных эмоциональных встрясок. Это может быть и неприятность, и радость. Его психика не выдерживает, происходит некая химическая реакция в голове и как результат — больничная койка в «желтом доме». Сегодня я его навещал. Иван после психотропных уколов и таблеток неуклюж, заторможен. Речь невнятная, как у сильно выпившего человека. Я ему привез пакет продуктов. Половина из них — сладости. Почти всех больных подкармливают родственники (если таковые есть и если они не отказались от несчастных), так как в лечебнице очень плохо с едой: каши на воде без масла, чай — без сахара… Мы сидели в комнате для свиданий. Брат в три рта уплетал передачу. Я же ждал, когда он утолит голод, и мы сможем поговорить. Наевшись, он молча протянул мне тонкую школьную тетрадь. На листах в клеточку несколько десятков кошек, нарисованных шариковой ручкой, жили полноценной человеческой жизнью. Они прогуливались на задних лапах, играли в карты и домино, ездили на велосипедах и машинах, ели ложками из тарелок, дрались, целовались… — Это, ик, кошачий город, ик, — прокомментировал, икая, Иван. Я вспомнил Бессарабию. Тогда, несколько лет назад, брат угодил в психлечебницу. Иван, чтобы себя чем-то занять, тоже в школьной тетрадке шариковой ручкой рисовал город. Только не кошачий, а хреновый. Хрены, похожие на члены (мужские половые органы) жили на тетрадных листах полной, многосторонней жизнью. Тогда Иван свои рисунки показал толстой краснолицей нянечке с золотым перстнем на одном из пальцев ноги. Она долго, пунцовея, гоготала. Казалось, вот-вот, словно пузырь, лопнет. Успокоившись и отдышавшись сказала: — Ты, Вано, комик! Чарли Чаплин, бля, отдыхает!.. Если сейчас брат попал в больницу, как мне думается, из-за влюбленности, из-за поцелуя в губы, то тогда из-за картины «Красный круг». «Красный круг»? Раз обронил «а», то скажу и «б», и «в», и «г»… У моего брата был день рождения. Мы его отмечали в кругу семьи: мама, я, именинник и еще Кеша — приятель брата. Я, признаться, не помню, что мы с мамой подарили Ивану. Запомнился большой торт весом в два с половиной — три килограмма, сделанный на заказ, и, как ни странно, подарок Кеши. Он, видимо, осознавая важность момента, крепко пожал имениннику руку, привстав на цыпочки, поцеловал своего приятеля три раза в щеки и вручил японский флаг (на белом фоне красный круг) размером с большой носовой платок. Мама на меня мельком глянула. В ее глазах были вопросительные знаки: «Мол, как к этому относиться, как понимать?» Я, сдерживая смех, заметил: — Оригинальный подарок! Не всякий человек с большой, бурной фантазией додумается до такого… Кеша задрал нос. Иван был в растерянности. — Красный круг на белом, — продолжал говорить я, — мне на ум пришел «Черный квадрат» Малевича. Пожалуй, одна из самых загадочных картин ХХ века. У художественных критиков множество трактовок «квадрата». На мой субъективный взгляд, маэстро Малевич просто пошутил, так как подобное может намалевать и пятилетний ребенок. Имея известность, имя, можно позволить себе подобную шалость на склоне лет. Ведь «квадрат» — одно из последних полотен… — Что-то ты, сынок, мудрено говоришь, — перебила меня мама. — Спиноза, когда выпьет, всегда кучеряво балаболит, — объяснил именинник. — Я про «Квадрат» Ивану Великану давно уже рассказывал. Он знает. А ты, Кеша, в курсе? — повернулся я к приятелю брата. — Да. По телевизору показывали акцию. Молодежь несла огромное белое полотно, а в центре был нарисован черный квадрат. Что они хотели этим сказать, я уже не помню. Прошло около месяца после Ивановых именин. Бессарабские художники —профессионалы и любители — организовали выставку «Палитра Бессарабии». Устроили ее в вестибюле самого крупного кинотеатра города Аккермана. Я не знаю, каким образом, но на одной из стен устроители повесили картину «Красный круг» художника Ивана Великанова. Мой брат, как потом выяснилось, натянул флаг страны восходящего солнца на подрамник и обил его рейкой, выкрашенной в красный цвет — получилась картина. Художники посмеивались, шутили, глядя на флаг в раме, а один важный чиновник от культуры устроил большой скандал. После выставки Иван в очередной раз разочаровался в людях и попал в «свою» больницу, где и рисовал «хреновый» город. P. S. Я до сих пор испытываю вину перед братом. Ведь это с моей подачи Иван «создал» «Красный круг», а потом приболел… Лето 200… г. 44. Дуня Приключение японского флага похоже на байку из жизни художников. В памяти всплывает небольшая курьезная история, произошедшая в кругу бессарабских литераторов. Это быль, но похожа она на байку. Итак. Знойное лето. Небольшой древний городок Аккерман. Южно-украинский, точнее, бессарабский базар — шум, толчея, запахи, яркие краски… По базару бредет сухонький сутулый старичок в мешковатом мятом костюме, несвежей сорочке, при аляповатом, старомодном галстуке. Время от времени он поправляет на голове не менее мятую, чем костюм, светлую в пятнах шляпу, стирает с красного, узкого лобика и лысины большим замусоленным платком пот и пыль. Постоянное выражение его физиономии такое, словно минуту назад он выпил стакан уксуса. Базарные торгаши и покупатели одеты легко — по-пляжному. Аккерман — курортный городок. Старичок же парится, но зато при костюме. Он — «главный редактор города», «живой классик», «Демьян Дунаев» — так дедушка представляется в дешевых пивных, винных погребках, на «точках» (торговля вином на дому)… везде! (по паспорту он — Дмитрий Писюкаев). — Здрасти, Толя! — Дунаев приподнимает шляпу. — Добрый день! — Ты знаешь, Толя, шо недавно скончался наш общий старинный друг, классик украинской и мировой литературы Славко? — Славко Паниев? Впервые слышу. — Да, друже, умер! Мне телеграмма из Киева пришла, — Демьян суетливо шарит по карманам, — вот, черт, дома, видать, забыл… Надо его помянуть, но у меня ни копейки. — Пошли! У меня есть пара «мятых» (мелкие купюры), — приглашает побледневший, расстроенный Анатолий. Они спускаются в прохладный винный погребок. Пьют по стаканчику-другому «сухаря» (сухое вино), закусывают пирожками с горохом. Дунаев, размахивая руками, произносит длинную, витиеватую речь. Через несколько дней на том же базаре. — Здрасти, Илюша! — Привет! — Наш-то славный Славко Паниев того, умер! — Да шо ты говоришь? Еще ж зимой был живчиком. — Скончался. Мне письмо от его вдовы пришло, — Демьян Дунаев долго трясущимися руками шарит по карманам, выворачивает их наружу — сыплется всяческий мелкий сор, падает на землю большой грязный носовой платок. — Вот, черт, дома, видно, забыл! Илюша, надо его помянуть… — Да! Надо! — отвечает побагровевший от неожиданной дурной новости председатель литературной студии города. — У меня ни копейки, Илюша! — Пошли! Тот же погребок. Вино, пирожки, пьяная, спутанная речь «главного редактора города». * * * Проходит месяц. На литературную студию города (встречи устраиваются в пустующей однокомнатной квартире) является сам Демьян Дунаев. Он написал новую главу автобиографического романа «Демьян Дунаев». Пишет он сей труд уже более сорока лет и конца ему невидно (объем рукописи — более двух тысяч машинописных страниц). На студию «метр» приходит редко. Может, раз в год. Поэтому первые пять минут все студийцы терпеливо внимательно слушают Дунаева. Потом кто-то из пожилых литераторов начинает дремать от монотонного бормотания «живого классика», кто-то, зевая, рассматривает потолок, кто-то рисует ручкой на листе бумаги абстракции… Пока Демьян Дунаев читает свою «нетленку», я к его портрету добавлю несколько штрихов. Когда-то, очень давно, он работал учителем русского языка и литературы. Чуть позже — корреспондентом в районной газете, был комсомольским вожаком… Но стал частенько «наступать на пробку» и началась деградация личности. Его поместили в «желтый дом» для лечения от алкоголизма. Возомнив себя не то Емельяном, не то Стенькой, Демьян с такими же, как он, пытался «поднять восстание» в психбольнице. Его выперли из нее с диагнозом: «слабоумие на почве алкоголизма». Он выпустил пару альманахов «Дунайская волна». В них, помимо стихов и прозы, были напечатаны астрологические прогнозы, рецепты блюд и прочее, не имеющее никакого отношения к литературному творчеству. Отбирал «живой классик» стихи и прозу для альманахов не исходя из их качества, а отталкиваясь от личных симпатий и антипатий к авторам. Так же издал «классик» книжицу своих весьма слабых графоманских рассказов большим тиражом. С этой книжкой он носился по всем «забегаловкам» Аккермана. Бил себя в грудь: «Перед вами живой классик! Главный редактор города!». Выменивал свой «труд» на стакан дешевого вина, садился к выпивающим в барах «на хвост» (то есть канючил, пока не наливали). Как-то раз он со стопкой рассказов заглянул в солидный бар. Стал приставать к одному бритоголовому, чтобы тот налил за «писательский подвиг». Тот от Демьяна долго отмахивался, словно от назойливой мухи. Не выдержав общества «живого классика», крутой дядька схватил Дунаева одной ручищей за ворот пиджака, другой за мотню штанов и выбросил зануду вон из бара на грязный, заплеванный асфальт. Какое-то время «классик», брызгая слюной, хвастался тем, что перетаскивает в своем дворе большую кучу кирпичей с одного места на другое, потом обратно. Нелепые физические нагрузки продолжались долго. В его же дворе всегда было мусорно, не прибрано. Лучше бы двор убрал. «Отредактировав» за деньги одному незадачливому городскому литератору тонюсенькую брошюрку стихов, Демьян «доил» несчастного (выпрашивал деньги на выпивку) несколько лет кряду, пока тот его сначала вежливо, а потом грубо не послал… Итак, Демьян Дунаев в нос бубнит «свежую» главу из автобиографического романа. Ему вторит большая зеленая муха, залетевшая с улицы. Наружная дверь квартиры открывается и входит Славко Паниев. У председателя студии от неожиданного визита «умершего» крепкая большая лысина покрывается холодной испариной. Кто-то поперхнулся конфетой-леденцом. Ти-ши-на! Дунаев, почувствовав напряжение, прерывает чтение и медленно поворачивает голову к входу. Бросает рукопись и, грубо оттолкнув в сторону «покойника», закрывается на щеколду в туалете. В комнате возгласы, смех, ругань в адрес Демьяна Дунаева. Спустя время председатель студии тихо подходит к туалетной двери и вежливо в нее стучит. Тишина. — Дуня, ты не прав! — осуждающе говорит председатель. — У меня шо-то с желудком, Илюша, сипло жалуется «живой классик», сидя в тесном и темном туалете. — Трубы горят (выпить хочется), Дуня? — Ох, как горят! — Наш «покойничек» принес с собою канистрочку вина. Ты как насчет стаканчика-другого? — Щас, Илюша, щас! Ты включи, родной, свет в туалете. — Дуня, выходи уже. Бить тебя не будем. Кстати, уже полканистры осталось… Минуту спустя Демьян Дунаев крадущейся походкой приближается к разогретой вином и доброй вестью компании. Выпив стаканчик, другой, третий… Дунаев начинает истерично орать: — Эй, мороз-мороз, не морозь меня… А на улице знойное бессарабское лето… P. S. Под Новый год мне пришло письмо с Украины, где сообщалось, что в октябре скончался Илья Васильевич Кабаци — председатель литстудии города Аккермана. Как литератор он звезд с неба не хватал, но был на редкость воспитанным, порядочным человеком, терпимым к чужим, даже большим, недостаткам. Месяц спустя, в ноябре ушел из жизни Демьян Дунаев (Дмитрий Писюкаев). Он прожил более восьмидесяти лет. Труд своей жизни — роман «Демьян Дунаев» он так и не закончил… Впрочем, это небольшая потеря для литературы. Лето 200… г. 45. Графиня Сейчас середина июня. Уже несколько дней немилосердно жжет солнце. Земля трескается. «Культурные» растения поникли. Домашние животные не находят себе места. Собаки, например, задыхаются и поскуливают. Мухи же наглеют: зло, остервенело кусаются. Как выразилась мама: «В дом лезет духота и мухота». На днях сделал запись о «Дуне» и сразу пришла на ум история, тоже похожая на байку, о Графине. О ней мне рассказал Кирюша Кривохрен, когда я жил в Бессарабии. Итак. Еще в застойные времена юная эксцентричная девица Стелла всех своих знакомых горячо уверяла в том, что ее бабка была настоящей графиней, не меньше. Надо заметить, что мода на дворянские корни появилась значительно позже — после развала Союза, после переоценки истории, после того, как компартия потеряла свою силу, влияние и ушла в тень. Тогда, в смутные девяностые годы, все, кому не лень, пытались выдать себя за «белых», то есть за дворян. Много было проходимцев, которые поднимали свой социальный статус, наживали капитал за счет «голубой» крови, что якобы текла в их жилах. Возможно, Стелла говорила правду о бабке графине. Первой же ее любовью был известный городской хулиган Витька Панченко по прозвищу Пан. Он — не из дворян. Его мать — грубая, мужеподобная женщина — всю жизнь торговала рыбой на городском рынке. Отца же Виктора никто из соседей не помнил трезвым. Сам же Пан слыл человеком со странностями. Лет в двадцать, незадолго до кончины Брежнева рослый и поджарый молодой человек в холодную пору ходил в своеобразном прикиде: высокие черные офицерские сапоги, длинный черный кожаный плащ, на шее — немецкий крест времен правления Адольфа Гитлера и длинная, падающая на глаза челка, крашеная в рыжий цвет… В один из советских праздников он нажрался в городском ресторане «Белый парус» и в сдвинутом состоянии заскочил на стол. Выбивая чечетку, выбрасывал правую руку вперед и орал: «Хайль Гитлер!». Чуть погодя дебошир расстегнул плащ и все присутствующие увидели на уровне его живота раритетный немецкий автомат времен второй мировой. Как разбегаются во все стороны, прячутся в щели тараканы, заметив занесенный над ними тапок, так вся публика, находящаяся в питейном заведении, кинулась под столы, в подсобки и даже в окна… Немецкий автомат был в нерабочем состоянии, но Виктору Панченко дали срок. Первый срок. Судмедэкспертиза признала его душевнобольным. Годам к сорока он сделал еще несколько ходок в места не столь отдаленные. В этот период жизни Пан и пил, и кололся. Приблизительно за год до моего отъезда в Россию я встретил старшего брата Виктора. Он мне рассказал, что Пан стал фанатично верующим человеком: постоянно читает Библию, молится, ходит в церковь… Вот такие метаморфозы. Один древний грек изрек: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Мне думается, список можно продолжить. Скажи, что ты читаешь, ешь, носишь… и я скажу, кто ты. А, да, скажи, кого ты любишь иль с кем живешь?.. Я сделал отступление о Викторе Панченко потому, что его любила Стелла-Графиня. Они были одного поля ягоды. Стелла имела свои заморочки — творческие. Она писала стихи и афоризмы. Но главной ее страстью были бездомные, увечные собаки. Она их подбирала на улице и несла домой. Мыла, кормила, лечила и даже малость дрессировала. В первые годы независимости Украины молодая тридцатилетняя женщина осталась одна в трехкомнатной квартире. Впрочем, не совсем одна. С нею жило несколько беспородных собак. В одной комнате — сучки, в другой — кобели, в третьей — самой большой — хозяйка приюта. Со слов Кирюши Кривохрена, Графиня нигде не работала. Ей материально помогал старший брат, живущий в Одессе. Вроде бы он был не то бандитом, не то каким-то боком был связан с криминальным миром. К этому же времени женщина заполнила стихами и афоризмами (мелким почерком) толстую общую тетрадь. Денег, что Стелле давал брат, хватало впритык только ей и собакам. И поэтесса стала искать спонсора для издания своей книжки. Она сделала визит к своему старому знакомому Пете-индейцу (в молодости он нарядами и прическами косил под вождя краснокожих, которых успешно играл актер Гойко Митич). Мутный, скользкий и нагловатый Петя благодаря всяческим махинациям (он ничем не брезговал) был в ту пору одним из самых богатых людей города Аккермана. Графиня и Петя-индеец сидели за столиком ресторана, что возвышался небольшим замком над белой льдистой гладью днестровского лимана. Была пусть не холодная, но зима. — Хороший у тебя, Петя, ресторан, — пригубив горячий кофе, заметила Стелла, — он удачно вписывается в местный ландшафт. — У меня еще три таких же, Стелла. Один у базара, другой у вокзала, третий — на берегу моря… С чем ко мне пожаловала, Графиня? Знаю, так просто бы не пришла. — Я, Петя, хочу выпустить сборник стихов и афоризмов. Своих. Мне надо сто баксов. Поможешь? Спонсируешь книжку? — Хе-е! Я недавно купил бэушный речной пассажирский корабль. Хочу из него сделать стационарную турбазу на берегу морской косы. Мешок денег нужен, чтобы его привести в товарный вид. Не поверишь, «капусты» на гвозди не хватает… — На гвозди, говоришь? — Да, Графиня, на них самые. — Ты в молодости слыл жадноватым, а сейчас еще более скупердяистым стал. Ресторатор сморщился. — Хорошо, Графиня, я дам тебе не сто, а тысячу баксов. И на книжку хватит, и твоим «породистым» шавкам перепадет. Только при условии, что ты на собачьей упряжке из своих питомцев проедешь от дома до базара и обратно. А-а, да. Сделаешь фотоснимок на фоне моего ресторана, что рядом с рынком. Это будет документом. — Ну ты, Петруша, загнул! — Я все сказал, Графиня. Прошло месяца два. В апрельском номере одной из частных городских газет появилась небольшая статья с фотографией. В заметке говорилось, что некая гражданка Стелла 1 апреля — в день смеха — съездила на базар за килограммом гвоздей на собачьей упряжке из трех крупных дрессированных дворняг. К статье прилагалось фото, где молодая улыбающаяся женщина сидела в легкой и низкой коляске, сделанной из бэушной детской. За женщиной, собаками и коляской возвышался замок-ресторан Пети-индейца. Со слов Кирюши Кривохрена, Графиня сделала повторный визит к скупердяистому ресторатору. Он, бегло прочитав статью в газете и глянув на фото, снова сморщился. Поэтесса с брезгливым выражением лица положила на стол пакет с гвоздями, повязанный розовым бантом, и тихим голосом сказала: — Не напрягайся, Петруша. Вот тебе гвозди. Ты же жаловался, что на них «капусты» не хватает, — чуть коснувшись рукой его плеча, добавила: — Расслабься, вождь краснокожих. Мне денег от тебя не надо. Тысяча баксов останется у тебя. После статьи в газете нашелся щедрый человек. Он уже дал деньги на книжку… Приблизительно через полгода, в сентябре, по окончании курортного сезона речной корабль Пети-индейца сгорел дотла. Остался лишь металлический ржавый остов. Поговаривали о том, что ресторатор не хотел платить дань одесскими браткам и они пустили «красного петуха». P. S. Наша с Кирюшей Кривохреном общая знакомая поэтесса Людмила Овдиевская как-то мне рассказала о взаимоотношениях едкого сатирика и Стеллы. Мол, на протяжении двух десятков лет Кирюша несколько раз пытался соблазнить Графиню. Он тогда бороздил дальние моря. Был, как говорят в Одессе, плавиком (моряком). У сатирика после каждого рейса водились немалые деньги. Кирюша накрывал богатый на закуску и выпивку стол, зажигал источающие аромат свечи, включал японский магнитофон с тихой чувственной восточной музыкой, зашторивал окна и приглашал Стеллу. Они выпивали, закусывали, читали стихи, говорили о литературе, о жизни. Поэтесса была более стойкая к чарам зеленого змия, чем сатирик. Он обычно, перебрав спиртного, засыпал, уронив голову на стол. Она, чуток посидев рядом с ним, гасила свечи, выключала магнитофон и, пошатываясь, уходила прочь в ночь… Лето 200… г. 46. Собачья свадьба Вчера случилась короткая гроза. Но дождь, увы, только умыл землю, а не напоил. Сегодня я опрыскивал картофельные кусты химраствором — травил колорадских жуков. Жара, ветер, а им хоть бы что. Они совокупляются на верхушках кустов, словно обезьяны на пальмах. Глядя на «влюбленные» парочки жуков, я вспомнил недавнюю собачью свадьбу. В ней участвовал и пес моих родных — Царь. Тогда мой брат Иван Великанов повесил псу на шею старый галстук, которым долгое время завязывали мешки с картошкой. До этого, около тридцати лет назад, я данный галстук повязал себе (единственный раз) на выпускной вечер в школе. Более галстуков я не носил. Нет, вру. Второй раз был при галстуке (уже другом) на нашей с Ольгой — матери моего сына — свадьбе. Где свадебный галстук? Я не знаю. Может, кому-то отдал? Не помню. Но вернусь к Царю Блоходаву 1. Галстук на псе сидел плохо: волочился по земле даже после того, как важный атрибут чиновничьего туалета был вдвое укорочен братом. Иван Великан нашел выход. Он вместо галстука повесил жениху на шею маленькую белую бабочку. Ее брату еще в Бесарабии подарил на один из дней рождения Кеша (странный Кеша всегда преподносил оригинальные презенты). Иван бабочку берег, но для любимого пса не пожалел. Итак, этой весной я из окна своей комнаты мельком видел собачью свадьбу. Впереди, важно задрав голову, кокетливо вытанцовывала крупная и рослая соседская сука Маркиза. За нею нестройной вереницей семенили с полдюжины взъерошенных и облизывающихся беспородных псов разных мастей и калибров. Процессию замыкал самый мелкий и модный (бабочка на шее) Царь. Любимца моих родных к Маркизе остальные «женихи» не подпускали. Но все же Блоходав I сделал отчаянную попытку: приблизился к «невесте» и, радостно, восторженно махая хвостом, пробежал под ее животом. (Признаюсь, комичное было зрелище.) Один из псов цапнул «пижона» с бабочкой и он, тонко обиженно поскуливая, бросился прочь… «Процессия» завернула за угол дома… Лето 200… г. 47. Невезучий Сегодня я навестил брата Ивана. Его лечащий врач сказал, что он идет на поправку. Еще недельки две и его выпишут из больницы. Ивану Великану я привез увесистый пакет с продуктами. Мы приблизительно с час сидели в комнате для свиданий. Говорили. — И что она во мне нашла? — спрашивал больной у себя и у меня. — Ты говоришь о Тане, которая поцеловала тебя в губы? — Да, о ней, Спиноза. Она меня уже три раза навещала. Привозила фрукты и конфеты. Тихая и ласковая со мной… Я вот думал, смог бы я, будучи женщиной, поцеловать такого мужчину, как я? — Ну и что, Князь, смог бы? — Не знаю. Я по жизни, Спиноза, какой-то невезучий. Как говорит наша мама, неловкий, малахольный. Наша семья в Рабово живет около трех лет. За это время мой брат Иван несколько раз попадал в глупые и нелепые ситуации. Примерно год назад он съел два пирожка с мясом на ж/д вокзале Губернска. Поздним вечером у него начались сильнейшие боли в животе. Позеленевший Иван почти всю ночь, постанывая, просидел на туалетном ведре. Ранним утром мама вызвала рабовскую «Скорую помощь». Она приехала почти через час. Пьяненький медбрат с опухшим, помятым лицом и красными глазами, мельком глянув на больного, заявил: — У тебя, родной, сифилис. Рассерженная мама послала к черту пьяную команду «Скорой помощи» и сама занялась лечением сына. Зимой, полгода назад, Иван захотел «красной рыбы». (Так он называет консервы «кильки в томате».) Купил баночку, открыл, стал есть. «Странный какой-то запах и вкус у «красной рыбы», — думал «гурман», наворачивая «братскую могилу». На дне банки он обнаружил сигаретный окурок. Его вырвало. За месяц до того, как попасть в «свою» больницу, мой брат купил в хозмагазине две лампочки. Одна сразу перегорела, другая — через два дня. Невезучий… P. S. Наша мама молит Бога, чтобы ОН послал мне и брату добрых, порядочных женщин. Кажется, Ивану Великану уже повезло. Пусть ему и дальше не везет в мелочах, важнее, чтобы подфартило в главном — в любви, личной жизни, чтобы рядом с ним была ЕГО женщина. Лето 200… г. 48. Печальная сказка Сегодня на улице был зной и никакого намека на ветерок, на свежесть. Я ужинал, когда из своей комнаты, поохивая, вышла бабушка Настя. Она, постукивая палочкой, доконагала до кухни и присела рядом со мною. — Чай будете? — спросил я. — Да. Налей, Андрюша. За чаем я рассказал Анастасии Афанасьевне о своем брате. Что, мол, болеет с детства, проблемы с головой. Бабушка, горестно вздыхая, поведала мне очередную свою сказку о двоюродном брате своего зятя - Василии. Итак, сказка. Всю жизнь Василий каторжно вкалывал трактористом в колхозе. При этом умудрялся пить горькую до полного бесчувствия. Бывало приезжал домой с какой-нибудь халтуры поздним вечером и вываливался из кабины трактора. Жена с детьми подхватывали пьяного отца семейства и волокли к постели. Продолжалось это долгое время. За несколько лет до пенсии тракторист тяжело заболел. Тут сказались и каждодневный угарный труд, связанный с химическими удобрениями, и, само собой, беспробудное пьянство, крепкий табак. Врачи у Василия обнаружили какие-то серьезные нелады с легкими. Дали первую группу инвалидности. Василий осунулся — кости да кожа. У него постоянно прыгала температура: то ему душно зимой, то знобит в летнюю жару. Слабость и боль стали постоянными его подругами. По дому он ничего делать не мог — сил не хватало. Трудоголику и алкоголику было отказано в труде и спиртном. Жена забирала всю его пенсию до копейки. А за «спасибо» Василию никто не наливал. Бедолага пробовал занять себя телевизором, кроссвордами и желтой прессой, но это не спасало от хандры. — Свихнуться можно, сучий потрох! Работать не могу, пить нельзя, — жаловался он соседу. От вынужденного безделья и всяческих ограничений у него стали появляться странности в поведении. За обедом Василий в первое блюдо (допустим, щи) вываливал второе (пусть будут — макароны по-флотски) и выливал третье (как правило, сладкий чай) и во все это месиво мелко крошил хлеб. Потом со словами: «Быстрее в пузе перемешается!», чавкая, словно поросенок, ел. В это же время он стал подбирать с земли, вытаскивать из ветхих деревянных строений старые ржавые гвозди. Их бывший тракторист ровнял молотком на куске рельсы, очищал от ржавчины грубой наждачкой, покрывал лаком для металла и фасовал в разнокалиберные жестяные баночки из-под кофе. Прошло время. Как-то, когда никого не было дома, Василий умудрился сильно напиться и вышел в огород за закуской (зеленым луком) в весьма странном одеянии: на голом бледном и тощем торсе — ярко-алый лифчик; на бедрах — черная мини-юбка (одежда из гардероба внучки больного). Трусов на мужчине не было и его «достоинство» бесстыдно выглядывало. О пьяном стриптизе Василия соседка рассказала его близким. Жена и дочь с внуками, уходя из дому, стали закрывать несчастного на замок. Он же в отместку им начал гадить (ходить по большой и малой нужде) в кастрюли с едой. В конце концов медкомиссия признала Василия душевнобольным и семья его сдала в рабовский интернат. Прожил в желтом доме он недолго — чуть более года. — Васька повесилась! — выдохнув, закончила сказку Анастасия Афанасьевна. Лето 200… г. 49. ЕЁ мелодия По воскресеньям, если не забываю, смотрю по губернскому телеканалу передачу «Наши таланты». На протяжении двадцати минут показывают восемь коротких номеров. В основном детишки и люди преклонных лет читают стихи, поют и танцуют. Все они, за очень редким исключением, любители. Глядя «Наши таланты», я испытываю смешанные чувства: и смешно, и грустно. Смешно, забавно глядеть на угловатых детей и подростков, грустно — на старичков и старушек, в большинстве выживших из ума. Частенько в передаче участвует маленькая, сухенькая, сморщенная бабулька (она чем-то похожа на горбунью из моих снов). Ей, наверное, лет восемьдесят. В старомодном платье и сиреневом парике с янтарными бусами на тощей шейке, она тонким сиплым голоском поет о неразделенной любви. Песни старые, забытые. Видимо, они были популярны более полувека назад. Головка «звезды «НТ» при этом трясется, вот-вот ее ножки-спички подломятся и она, рассыпавшись, рухнет на пол сцены. Нередко в «НТ» выступает рослая и толстая баба лет шестидесяти. В ней, наверное, пудов десять будет. «Десятипудовка» любит танцевать под восточные мотивы. Талии у нее нет. Покачиваясь из стороны в сторону, она выделывает кренделя руками. Есть еще одна «звезда» — маленькая кривоногая женщина средних лет, похожая на обезьянку с килограммом косметики на лице, шее и груди. Мне запомнился ее танец с большими кухонными ножами. При этом она пела хриплым — пропитым и прокуренным — голосом. От этого нелепого, карикатурного номера у меня пошли мурашки по телу. Тогда «обезьянка» заняла первое место и получила небольшой денежный приз. Время от времени в передаче участвует малец четырех-пяти лет. Каждый раз он в новом нарядном прикиде. «Артист» под музыку не поет, а невнятно, невпопад говорит. Маленькое его некрасивое личико выражает муку и боль. В глазах — зеленая тоска, брови — «домиком»… Видимо, для мальчика эти выступления — пытка. Его же родственнички, мучая сына и внука, пытаются насильственно сделать из ребенка артиста… К чему я все это написал? После «НТ» транслируется музыкальная передача с участием профессионалов «Мелодия». В ней поет, музицирует и читает стихи губернская творческая элита. Эту передачу я смотрю реже. Смотрю в том случае, если среди выступающих и немногочисленных зрителей (два-три десятка человек) есть знакомые лица. Телеоператор частенько показывает крупным планом двух девиц-зрительниц. Они, надо полагать, постоянно посещают эту светскую тусовку. У первой — елейное выражение лица, у второй — кислое. Бывают девицы — кровь с молоком, а эта, вторая, — подобна прокисшему молоку. Ну да Бог с ней. Может, у нее неприятности. Два дня назад, в воскресенье, я увидел по телевизору ЕЕ. Признаюсь, сразу не узнал. Глядя несколько долгих минут на хорошенькую женщину, сидящую в первом ряду, испытывал беспричинную тревогу, беспокойство. Когда же ведущая «Мелодии» объявила ЕЕ номер, назвав имя и регалии, мое сердце, банально и пошло выражаясь, затрепетало бабочкой. Она пела романс на свои стихи. Музыку написал волоокий гитарист с косичкой. Он ей аккомпанировал. Как удав гипнотизирует кролика перед тем как проглотить, так ОНА ввела меня в состояние транса… Я снова потерял покой и сон. Этой ночью до бледного рассвета не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, с живота на спину. Много курил. Кашлял, словно старый дед. С первыми криками петухов забылся тяжелым с видениями сном. Перед самым пробуждением мне заглянула в глаза и криво беззубо улыбнулась горбунья, сидящая на верблюде. Потом старая тонко и пронзительно заверещала — это зазвонил будильник. Лето 200… г. 50. Камчатка Сейчас на улице пасмурно и ветрено. Тучи на небе, словно огромные куски грязной ваты. Сижу у окна, курю и делаю эту запись. Порой проходят по улице люди, в обликах которых мало человеческого. Нечто дремучее, низкое и скотское есть в их фигурах и лицах, походках и движениях. Они, как правило, неряшливы и в темных одеждах. Пьющие. Опустившиеся. Глядя на замусоренные и неухоженные улицы, серость и убогость села Рабово, вспоминаю Камчатку. Мне тогда было чуть за двадцать. Восьмидесятые годы. Горбачев. Сухой закон. Душа моя металась, тосковала, и я совершил побег от теплого Черного моря к холодному Охотскому. Пересек, высокопарно выражаясь, на железной белой птице (самолете) шестую часть суши (СССР). Это было бегство от себя, от беспричинной тоски, что меня мучила. Уже на Камчатке в маленьком рыболовецком поселке я понял, что от себя не убежишь. Ни водка, ни женщины, ни другой пейзаж за окном… не спасут. Это сейчас я нахожу спасение, отдушину в графомании. Камчатка: мало солнца, серое небо, снег и холод, повальное пьянство и блуд, поножовщина. Этот суровый неприветливый край стал для меня тогда изнанкой Советской страны — грязной, вшивой и пьяной. В маленький поселок с крупным рыбоперерабатывающим заводом в период путины (ловли рыбы и крабов) съезжались сезонники со всего Союза. Среди них было немало мутных и скользких типов, не друживших с законом. Было много охотников за длинным рублем и малая толика странных, потерянных, запутавшихся в себе и жизни чудаков. Я относился к последним. Пробыл на Камчатке я около года. В конторе, где работал, сделали сокращение штатов. Я попал в число уволенных. Особо не мучаясь и не сожалея, вернулся в солнечную Бессарабию к теплому морю, Грех провести свои лучшие годы — молодость — в медвежьем углу. Признаюсь, и сейчас иногда бывают беспричинные позывы собрать рюкзачок и рвануть куда-нибудь на край земли. Но бросать старенькую маму и больного брата совестно. Лето 200… г. 51. Хухрымухры и Царь На днях мне пожаловалась мама: — Уже недели две не видела Царя. Пес забыл свой дом, забыл нас. Волочится, словно хвост, по всему Рабово за Хухрымухры… Хухрымухры — кличка мужичка, похожего на маленького болезненного лешего. Зовут же его — Альберт, фамилия — Хухрымухрыдинов. Альберт в прошлом скотник и дояр, ныне подрабатывает к небольшой своей пенсии сторожем в одной из сельских «контор». Хухрымухры — мелкий и щупленький. Сильно сутулится и хромает. Вся его голова и тело, словно мхом, покрыты пепельно-рыжим волосом. Пучки волос торчат из ноздрей и ушей. Мохнатые, ветвистые брови маскируют косой взгляд мутных, невыразительных глаз. Хухрымухры в теплое время носит старые мятые пиджаки и брюки. Штанины брюк он обычно заправляет в носки. Словарный запас у «лешего» весьма мал. В основном он пользуется матерными, нецензурными выражениями. Родом Альберт из медвежьего угла — поселка, затерявшегося в вековых лесах. Возможно, поэтому мужичок заядлый грибник. Он хорошо знает окрестный лес и подрабатывает сбором грибов. Когда-то у Хухрымухрыдинова была семья, но он сильно пил и жена его выгнала из дома. Сейчас он, подобно мне, живет в коммуналке. Говорят, частенько «наступает на пробку». Доходит до того, что пропивает за несколько дней всю пенсию и зарплату, а потом голодает — сидит на картошке в мундире. Почему я так тщательно описываю Хухрымухры? Да потому, что он лучший друг Царя — пса моих родных. Альберт и Царь в последние полгода были неразлучны. Блоходав I ходил с Альбертом на суточные дежурства, делал вылазки в лес за грибами… Видимо, Царь и Хухрымухры были родственными душами. Да и внешне они были похожи. Оба маленькие, щупленькие и какие-то пришибленные. Почему я написал «были»? Да потому, что любимца моих родных и лучшего друга Хухрымухры пса Царя вчера застрелили из ружья. На предприятии, где сторожем подрабатывает Хухрымухрыдинов, делали очередной отстрел собак. Площадь предприятия большая, много заброшенных зданий и всяческих закутков и «хвостатая охрана», имея постоянную, сытую кормежку, размножается, словно кролики. Отстрел делают, чтобы уменьшить количество ртов. Если его не делать, то будет не серьезная контора, а что-то вроде собакофермы. Мама, узнав о гибели Царя, всплакнула, а Хухрымухры, со слов соседей, сильно запил. Лето 200… г. 52. Самый человечный человек Сегодня был у своих. Маму встретил у калитки дома. Она держала путь к соседке. Судорожно улыбнувшись и стыдливо смахнув слезу, она пропела (иначе и не скажешь), что мой брат и ее сын Иван утром приехал из «своей» больницы. — Иди, сынок, повидайся с ним, — радостно добавила она. Я коснулся рукой калитки, хотел уже было ее открыть, но передумал. Решил сходить в магазин и купить что-нибудь сладкое для Ивана Великана. Я тихо, словно вор, зашел в дом с большим увесистым куском халвы в пакете. Хотел сделать маленький сюрприз брату. И тут услышал громкие голоса, идущие из его комнаты. В гостях у Ивана был генитальный поэт Алекс Пипецкий. Не выдавая себя, я присел на табурет в кухне. — Я перед тем, как ты пришел, смотрел телек, — говорил Иван Алексу, — показывали мультик про Винни Пуха. Про именины ослика Иа. Очень расстроился! — Отчего, Великан? — У Пятачка лопнул воздушный шар, который он хотел подарить ослику, а Винни Пух, пока шел, съел весь мед и подарил пустой горшок. Иа итак печальный, а тут еще это с подарками. — Ты самый человечный человек, Великан! Таких, как ты, я не встречал на своем жизненном пути! — брызгал слюной пьяненький Пипецкий. — Что ты сейчас, Иван, сделал? — Я поймал муху и выпустил её в форточку. Не могу убить. Жалко. — Я восхищен тобой, Великан! Ты Гулливер в стране злых, подлых и завистливых лилипутов. Душонки у них мутные и мелкие, а ты гигант. Да что там! Ты «Пик Коммунизма!» Ты огромный слоняра, окруженный стаей Мосек!.. — и тут Пипецкий зарыдал. — У меня не только большая печень, но и большое сердце. Я все чувствую и все понимаю про людей… — Что с тобой, Алекс? — Меня, Ванюша, баба выгнала. Я с ней почти два года, а она… Ваша баба — рабовская. Я ей сонеты посвящал, а она… Дай пятьдесят рублей! Хочу горе свое залить! — У меня, Алекс, сейчас нет денег. — Иван, ты самый человечный человек. Найди пятьдесят рублей! А-а-а? Я вошел в комнату. — Пошли, Алекс, выпьем по сто двадцать пять граммов. Ты за то, что вернешься к своей одинокой старенькой матери в Губернск, а я за возвращение, за выздоровление брата. Мы с Пипецким «раздавили» чекушку водки в «Космосе» и он с красным лицом и мокрыми глазами сел в автобус. Когда машина двинулась, поэт с большими печенью и сердцем махнул мне рукой и с долей истерии крикнул в открытую форточку: — Ты тоже человечный человек! Прощай! Проводив генитального лирика, я поспешил к своим. Хотелось поговорить с братом Иваном и мамой. Они чинно сидели за столом и с сияющими лицами пили чай с халвою. Рядом с ними женщина сорока — сорока пяти лет. Не красавица и не страшненькая. Обычной внешности. Таких много. — Знакомься, Спиноза. Это моя Таня, — радостно сыпал слова выздоровевший, — а это, Таня, мой старший брат Андрей. Мы вчетвером сидели до сумерек. Татьяна почти не говорила, отвечала односложно: «да» и «нет». Видимо, стеснялась. Начинало темнеть, когда мы с Татьяной вышли на улицу. Нам было по пути. Мы разговорились. — Скажите, Татьяна, откровенно, что вас привлекло в моем брате? — Ивану идет пятый десяток, а он какой-то незамутненный, чистый. — Может, в вас говорит материнский инстинкт? — Возможно. Мне Бог детей не дал. Была замужем. Прожили около десяти лет. Муж ушел к другой. Она ему родила сына и дочь. — Мой брат болен. — А кто сейчас здоров? Тьма тьмущая пьющих, наркоманов, уголовников... Мне с вашим братом, Андрей, хорошо. Он добрый, ласковый. Я хочу встретить с ним старость, если, конечно, доживу до нее… — Давайте на «ты». — Давай… P. S. Кажется, у брата налаживается личная жизнь. У мамы, возможно, появится новая невестка. Я рад за них. Лето 200… г. 53. ОНА Случилось. Я был с НЕЮ. Другой бы на моем месте ликовал, потирал руки, а я запил на несколько дней. Позвонил на работу и попросил, чтобы меня подменили. Стояла жара, в тени под сорок, а я пил, не закусывая, теплую водку (не было никакого желания ее охлаждать) и пускал слезу, словно прыщавая девица, у которой случилась первая неразделенная любовь. Пил, лежа на диване этаким бревном. Рядом с моим лежбищем валялось несколько опустошенных поллитровок. Громко, надрывно орало радио. Звучал жалобный, душещипательный шансон. Я всегда над подобной музыкой подтрунивал, иронизировал, а тут обливался слезами, слушая про «любовь» и «кровь», про «розы» и «морозы»… А когда зазвучал романс Николая Носкова, где он с пронзительной тоской затянул: «…И под ее атласной кожей бежит отравленная кровь…», я заревел, точнее, зарычал медведем… Признаюсь, после рычания и обильных слез мне стало немного легче. На третий день я перестал пить. Душевная боль от водки только усиливалась, становилась невыносимой, хоть в петлю лезь. Видимо, в отношении спиртного я в маму. Она как-то говорила, что когда выпьет, пусть даже с наперсток, ей становится грустно, плакать хочется. Перестал жрать «горькую», ничего не ел, только пил теплую воду из трехлитровой банки, что стояла рядом на полу. Так пролежал несколько дней на диване, тупо глядя в потолок. А, да, еще слушал шансон по приемнику… Душевный раздрай мне пошел на пользу. С болью, выворачивающей меня наизнанку, со слезами, звериным рычанием я очистился от «сердечного нарыва». Он зрел-зрел долгие годы, мучил меня. На днях он лопнул, вытек и я почувствовал облегчение, почувствовал какую-то белокрылую легкость, душевную просветленность. С такими душой и сердцем можно начинать жизнь с чистого листа. Я радовался, что способен на слезы, способен на долгое, глубокое чувство. Значит, в свои сорок пять я еще не живой труп. Да, у меня случилась пьяная недельная истерика. Соседка по коммуналке бабушка Настя заволновалась, забеспокоилась обо мне. На третий день робко постучалась в мою комнату и предложила куриный бульончик. Потом зашла, присела рядом на стул и спросила: — Женщина? — Да, бабушка Настя. Леди из серебряного века. — Что? — переспросила она. — Это сложно. Не буду объяснять. — Не надо объяснять и так все ясно. Иди, Андрей, похлебай бульончик. — Спасибо. Сейчас. Около двух недель назад был юбилей губернского литературного журнала. Презентация очередного номера издания проходила в одном из Домов культуры города. Выходили поэты и поэтессы — читали стихи. Поэзию разбавляли бардовскими песнями. Ведущий праздничного вечера объявил ЕЕ, сделав маленькое отступление: — Одна из лучших наших поэтесс скоро уезжает на постоянное место жительства в Москву. Послушаем ее. Скоро она будет радовать своим творчеством столичную публику… Я сидел в многолюдном зрительном зале. Меня била легкая дрожь. Я видел ЕЕ не на фото, не по телевизору, а в живую. После литературного вечера авторы журнала рванули в близлежащий бар. Я оказался в их компании, оказался за одним столом с НЕЮ. ОНА разглядывала меня с интересом, не стесняясь, в упор. Выпили, закусили, стали читать по очереди стихи. ОНА быстро захмелела, я — тоже. Мы вышли покурить на воздух. — Я скоро уезжаю в Москву и хочу сегодня оторваться по полной. Хочу оторваться с тобою, — женщина сделала паузу и спросила глазами. — Андрей! — представился я. — Да, с тобою, Андрюша… ОНА поехала ко мне в Рабово. Женщина моих сердечных мук и бессонных ночей как-то буднично разделась, легла на диван и, подавив зевоту, сказала: — Не комплексуйте, милый друг! Смелее! Я дрожал. Казалось, еще мгновение и потеряю сознание или лишусь рассудка. После близости она повернулась ко мне спиной и заметила: — А ты, Вовочка, пирожное! — Не Вовочка, а Андрей! — А, да, Андрюша… Ночью в каком-то сдвинутом, бредовом, лихорадочном состоянии мне привиделось, что рядом со мною лежит горбатая старуха. Я вроде бы даже горб нащупал. Утром я проснулся один в скомканной постели. Подушка была испачкана ЕЕ помадой. Одеяло сползло на пол. Почему я запил, впал в депрессию? ОНА в стихах - светлая, чистая и легкая, а в жизни – взбалмошная, циничная, приземлённая… Может, сорвался потому, что «ларчик» слишком просто открылся? Может, оттого, что случилось то, о чем я и мечтать не мог? Не знаю. Лето 200… г. 54. Невеста Вчера был в Губернске. Из Сугробска в Союз писателей к метру областной поэзии приезжала моя давняя (около шести лет знакомы) приятельница Наташа. Она готовит к выпуску третью книгу стихов. Консультировалась у пожилого седовласого, слегка пьяного и чисто выбритого поэта. Он делал разбор ее стихов: подсказывал, уточнял, советовал и, конечно, поучал. Я прихватил с собою литровый пакет красного сладкого вина и несколько бананов. На улице стоял зной под сорок градусов в тени. В старом же толстостенном здании, построенном в XIX веке, было свежо и прохладно. Мы втроем (метр, Наташа и я) пили охлажденное в маленьком холодильнике вино, закусывали бананами, читали стихи, говорили о литературе. Потом сварганили черный чай. Тут пошли в ход конфеты и печенье, что привезла Наташа. Наташа — приятная женщина моих лет. Разведена. Знаю, что я ей симпатичен. Головой понимаю, что лучше женщины, чем она, мне не надо. Наташа ладная, умная, чистоплотная, хорошая хозяюшка (в прошлый свой приезд в Губернск она угощала меня блинчиками с творогом и изюмом. Знатные были блинчики). Знаю, что она никогда мне не скажет: «Что, опять свои маразмы пишешь?!» Как это делала моя бывшая жена Ольга. Наташа — очень позитивная. Но сердце мое глупое, увы, молчит. Если бы я с нею сошелся, она рано или поздно это почувствовала бы. Зачем мучить ее и себя? Было часов шесть вечера, когда я вскочил в рабовский автобус. «Железяка» за день нагрелась. В распахнутые форточки вливался пыльный и жаркий, пахнущий асфальтом и выхлопными газами, воздух. Все сиденья оказались занятыми. Много людей стояло в проходе. Пассажиры были красными и потными. Водила крутил по магнитофону тюремные песни. Я знал в Сугробске одного молодого мента (вместе охраняли объект). Он был поклонником подобных песен. — В них есть душа! — оправдывался он. До самого Рабово я был на ногах (минут сорок). Рядом со мною, стоящим, сидела девица с большим декольте и без лифчика. И мой взгляд, когда я наклонял голову, нырял в темный омут меж небольших полуобнаженных грудей. Кроме мужского любопытства я при этом ничего не испытывал. Ни малейшего полового влечения или желания. Может, старею? Приехав в Рабово, я зашел к своим. — Твоя с братом невеста сегодня ночью пела! — пошутила мама. --У Ивана Великана Татьяна есть. Она уже не общая, а моя невеста. Надо будет как-нибудь ее поймать и поцеловать. — А вдруг это не она, а он. Ты поцелуешь, а она превратится в мужчину, — пошутила мама. Потом помрачнела лицом. — Я переживаю, сынок, что ты уже долго один. Неужели нет подходящих? — Моей нету… «Невеста» — темная, бородавчатая жаба, что уже второй год живет под крыльцом дома моих родных. Ночами она вылезает из щели меж досок. Лакомится комарами и мошками; наверное, любуется звездами; поет свои жабьи песни… Днем подставляет солнцу свое пузико. Оно, пузико, бывает желтеет в щели. Это только в сказке поцелованная царевичем лягушка оборачивается в девицу-красавицу. В реальной жизни же частенько хорошенькии невесты с годами превращаются в жен-жаб. P. S. Я пытаюсь привыкнуть к мысли, что ОНА — не моя женщина. Что мне такая, подобная не нужна, но мне это пока плохо удается. Лето 200… г. 55. Побег Последнюю запись я сделал более месяца назад. Сейчас начало сентября. На днях пришло письмо от друга детства, юности, молодости и зрелости Дена (Дениса Козаченко). Он, змей, сейчас живет на берегу озера Байкал. Работает егерем. Признаюсь, меня не слишком удивил поступок друга. Его рывок из Европы (он жил в городе Владимире) на Дальний Восток. Его всю жизнь кидало в крайности, впрочем, как и меня. Ден зовет меня в гости. Пишет, что у него там отменная рыбалка и охота, удивительные по своей красоте и чистоте места. Мол, живет в медвежьем углу, чаще встречает косолапых, чем человеков. Может, мне рвануть к нему на постоянное место жительства? Жить вдалеке от людей, цивилизации, вдалеке от человеческого вертепа. Я знаю, от себя не убежишь, не скроешься (пример тому — Камчатка), но все же, может, поменять обстановку? В молодости, после поездки на Камчатку, находясь в депрессии, у меня появлялись мысли об уходе в монастырь. Я бы заперся в монашеской келье, но, увы, к сожалению, недостаточно верю в Бога. Вспоминаю Всевышнего только в трудные минуты и бессонные ночи. Не знаю ни одной молитвы. Молюсь по-своему: «Спаси и сохрани, Господи! Убереги от зла, от темного и низкого. Прости мои вольные и невольные грехи…». Тайга — это тоже заточение, отшельничество. Может, встречу адекватную, приятную женщину. Создам семью. Мне надоели взбалмошные, богемные дамочки с многочисленными сквознячками и стаями тараканов в гордо поднятых головках. P. S. За маму и брата Ивана я спокоен. Рядом с ними Татьяна. Я ей доверяю. Буду приезжать к ним в гости. Пожалуй, все. А, да, забыл! Горбунья на верблюде! Может, это я! Я, как и она в моих снах, ищу свой оазис. Ищу свой берег, место, уголок, где мне будет хорошо и покойно, где я буду в мире с самим собою, где не будет тосковать и метаться моя согбенная душа… А может, оазис — это женщина?.. Осень 200… г 2008-9 годы. Село Г****во
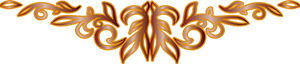 |
|
Категория: Проза › МВ | Просмотров: 1146 | Дата: 21.12.2017 | |
| Всего комментариев: 2 | |
|
| |




