Под диваном |

ОНА Автор болен, и бог весть что творит, а как натворит, так стыдно ему, автору – Больная голова. Я хожу и утешаю, а он залезает под диван и плачет. Он говорит мне из-под дивана, что все кончено, и не надо ему туда валерьянку, потому что не поможет, потому что ничего уже не поможет, только время. Я молоко ему кипячу и масло добавляю, а он все равно не вылезает. Мне так жаль. А ведь какие картины рисует! Нарисует, и тут нужно глаз да глаз, буквально рядом стоять, а то ведь возьмет и разорвет все в клочки. Сколько раз такое бывало. Пока рисует, все мечется по квартире, коридор – кухня – комната – балкон, ищет пятый угол, а то вдруг даже запоет тихонько. Я ему положу печеньки у мольберта, он и поест глядишь, а может, и не станет. Потом вдруг вроде успокаивается, в работу уходит, и я так радуюсь, от сердца отлегает, но – ненадолго. Нет у нас ни равновесия, ни покоя. Нет, ну так и что ж, мы уж привыкли, живем как-то, справляемся. Вот ночью тут было, не передать. Я не знаю, что он выпил и где нашел, может Данька принес, дружбан окаянный, да только бегал автор – Больная голова в совсем малоодетом виде по всему двору, и кричал, что достал любовь с неба и всем сейчас раздаст. Хорошо, все спали, только кошки шарахались. Я его домой силой волочу, а он и мне любовь раздавать пытается. А как отпустило, так опять под диван. И плачет, и плачет… Вот такие дела. А то просит ладан зажечь. Зажигаю, каждый день зажигаю, все пропахло уже ладаном. А пост у нас внеурочный целый месяц как, и похудел он сильно. Говорит – бог отвернулся, все за грехи дается. А какие такие грехи особенные? Гордость, говорит. Непомерная гордыня, и вся под диваном. Да только эту гордость только он в себе и видит, а для меня она скрыта совсем. Просто страдание, за что, ни за что – все игры разума, причины разыскивать. Да ни за что, причины нам неведомы. Во сне видит, как по лезвию ходит, ножки режет. Через пропасть то лезвие, вправо–лево наклонишься, считай, разбился. Мы с образами этими работали: зачем тебе по лезвию, почему по земле ходить не хочешь? То ли пресно ему по земле, то ли вдохновения лишится, а это для автора что смерть. Там, говорит, не только боль и опасность, там – чудо, волшебная страна. И действительно, чудо, картины его эти. И любовь, которую спьяну раздать пытается, есть в нем, вижу, да только все это какое-то больное, с надрывом. За пределы заглядывает, видит там что-то, принести сюда пытается, а выходят обычно глупости пьяные, как в ту ночь – по двору в исподнем. Обидно, говорит, когда света полными пригоршнями хватаю, домой несу, а наваждение заканчивается – в руках лишь бутылка, больше ничего, и стыдно, и смешно. Автор, чудо ты мое, я залезу сегодня к тебе туда, под диван, и все-все объясню. Что любовь – она здесь, открой глаза, увидишь. И это, знаешь, обедать тебе нужно по-человечески, а ладаном не спасешься – химера. И может быть сегодня он вылезет из-под дивана, поди знай, ведь может быть? Или я там с ним под диваном останусь. ОН А что мне делать с ней, этой космической дурой, с ее кипяченым молоком, с ее салфетками кружевными, что по всему дому разложены? К какому месту всю эту любовь ее прикладывать? Пусть в детский сад идет работать нянечкой, или в медпункт – сестрой милосердия. А я тут сдохну. Сдохну, скорей бы уже. Разве ей с ее мозгами божьей коровки понять меня, эту пропасть, эту бездну, это отчаяние? Диван ей не нравится. Да от таких, как она, диогены в бочках жили. Леонтьев Шурочка, муdак муdаком, Что аффтор накреативил, пасторалей позорненьких, а продать, себя подать – умеет, sцуко. Придать товарный вид высеру, и банкомат весь ваш. И ведь какая безысходная несправедливость. Бля. Что я несу. Господи, господи, прости и помилуй мя, грешнаго.. Вчера был ясный вечер, и закатное солнце залило оранжевым светом весь этот маленький мир, что виден из-под дивана. Она подошла к окну, и смотрела на это солнце, и провалилась в закат. Она – часть этого света, и я вижу, как она уходит туда по радугам, прочь от меня. Невесомая фигура движется в воздухе, спутник мой, траектория движения вдруг меняется – на солнце вспышка – и я один. Она уйдет. Любая бы ушла. И она уйдет, я знаю. Мир большой, и под другими диванами ее тоже ждут. Ждут, когда принесет ее ветром, с ее кружевными салфетками, неисправимой наивностью и бесконечной верой в гениальность того, кто вдруг окажется рядом. На стене напротив – календарь православный, господь вседержитель смотрит на меня. В руке его книга открытая: Заповедь новую даю я вам. Да любите друг друга. Иногда эти слова вдруг становятся объемными, выпуклыми, проникают в голову, переполняют меня, и мне кажется – да, вот оно, и я люблю, господи. Иногда. ОНА Он вылез сегодня из-под дивана. Вылез, волком смотрит. Я не знаю, что я такого сделала, чтоб так смотреть. Прощай, говорит. – Какой прощай, ты о чем? Подойти пытаюсь – отворачивается. Вот что в мозгах у человека? Любовь, говорит, - партия в шахматы, а ты конем как ферзем ходишь. И социальной дурой обзывает. Я молчу уже, молчу и в глаза смотрю, зрачки широкие. Умный ты, умный из-под дивана, что неласковый? Я, говорит, все знаю. Все это что? Взял листок тетрадный и фигу мне рисует, символист. Фига говорит тебе, проваливай, говорит. Нет, ну я понимаю когда у человека белочка, но ведь трезв как лист. Я уйду, конечно, если ты так настаиваешь. Но вот кажется мне, что ты бредишь, автор Больная голова. А как иначе понимать? Ты, говорит, еще позавчера в закатах растаяла, не мучь меня больше. Ну ладно, оделась я, вышла на улицу, ну его. Час пройдет, все изменится, сам же прощения попросит. Всегда просил, и теперь также будет. Может быть. Во всяком случае надеюсь я на это, рассчитываю. Потому как если не попросит, то что делать тогда? В закатах таять? Люблю я его, или сама себе это внушаю? Танька говорит, дура патамучто. Мама говорит, совсем ты себя не уважаешь, на гениев этих непризнанных себя тратить. а я иду куда-то, иду, и падает снег. Я иду в пустоту, я ничего не знаю. Я ничего не боюсь. Если Автор прогонит меня снова, я не останусь. Не вернусь, и в дверь не постучу. Прощай, Больная голова. Маленький человечек в железной коробочке Едет по маленькому Невскому проспектику. Маленький и расстроенный он полный багажник везет кренделей. Мамочка, милая мамочка, Ну обними меня, ну приласкай меня, Чаю налей и скажи мне хорошее, Мамочка, пожалей Дочку свою, свою бедную дочь. Я ведь любила, я ведь два года целых С ним, ну а он, а он… Мама!! Я же души в нем не чаяла! ну почему, почему ФИГУ он нарисовал мне, ФИГУ!!! Блин, я реву.. Мама!!!! Ты понимаешь, он выгнал меня, я не знаю, Что там в башке перемкнуло, Я не вернулась, нет, и не вернусь, Но вот неделя прошла, слышишь? Неделя!! А он мне даже не позвонил. Мама, ну как же так?!! Как?! Вот тебе целый багажник моих кренделей. .. Ты успокойся, ты бредишь немножко, Бывает всякое, всякое Что же ты, солнце, неделю целую Плакала? А я так рада, ну его, этого всякого, Вот тебе кружка, пей, и говори, говори, Все расскажи мне, я внимательно слушаю, Слушаю. Мама, а вдруг его нету уж больше, всякого, вдруг Диваном случайно придавило его? Мама!! А вдруг воры пришли и разбойники, Вдруг убили, вдруг задушили его? Мама, а мысли дурацкие, страшные – Будто гвоздями приколотили его, Боже мой, Боже… прости меня, Ну прости меня. Все, я нормальная. Я спокойная. Все, я адекватно себя веду. Ты не грусти, ты не плачь, мое солнце, солнышко. Сердце не рви. Мне так жаль. Я ухожу, но с тобой под диваном останутся Мысли мои, и любовь, и печаль. ОН Боль скатывается вниз, возвращается и снова по кругу, боль выбрала меня, и я тихо матерюсь. Это выглядит странно; иногда я вскакиваю с места, мне неуютно так, что не усидеть. Я судорожно хватаю сигарету, от которой нет облегчения, варю кофе, пью какие-то таблетки. Они могут отодвинуть боль во времени, например – до завтра. Или до послезавтра. Но она все равно вернется ко мне, а я так и не научился ее выносить. Боли очень нравится место под ложечкой, там особенно сладко выпивать меня, особенно просто. Черная воронка погружает в меня соломинку для коктейля и пьет мою жизнь как блек-джек. Я не помню, как ставить защиту, переключение внимания ничего не дает, и хочется убиться наhуй. В последний раз это действительно помогло – после того, как откачали, обкололи так основательно, что не испытывалось вообще ничего, амнезия всей тушки. Правда потом заново пришлось учиться ходить и говорить - с днем рождения тебя, большая тряпичная кукла. Если научиться отключать мозг в такие моменты, не думать вообще, просто испытывать, можно избежать столкновения с ужасом, паникой, безысходностью. И однажды увидеть, что черной воронке мало витальной силы. Она вооружается кривой маленькой ложечкой и жрет мозг, по-немножку, медленно, верно, разрушая необходимые жизненно связи. Пограничное состояние пройдено, точка невозврата позади. Мир склабится в издевательской ухмылке, никто не понимает меня, мое место в психушке. Хроники пикирующего. Я не желаю больше разговаривать с вами, я не понимаю вашего языка, ваших правил. Я псих, идите на hуй. ** Один человек, который долгое, долгое время провел под диваном, вылез оттуда, и отрастил себе длинные волосы. Волосы спутались, и он смотрел на себя в зеркало недоуменным взглядом, и потерял покой. Один человек из-под дивана многое понял, смотря на себя в зеркало, и однажды ночью полез на шпиль Адмиралтейства. Это нелегкое, трудное и опасное дело, лезть на шпиль Адмиралтейства однажды ночью; но на самом верху иглы, на самом конце шпиля – позолоченный кораблик на шаре, и можно ухватиться и держаться за него, и он забрался. А утром его заметили. Люди собрались внизу, под Адмиралтейством, и глядели вверх, и переговаривались. Это пациент, конечно, это он, а горячка – белая; это перформанс, в защиту братских народов; это любовь, а любовь несчастна; это псих, обыкновенный, вчера в дурдоме амнистия была. Потом приехал телеканал НТВ, и снимал репортаж, а еще прилетел вертолет. С неба спустилась вертолетчица по веревочной лестнице, и о чем-то говорила с человеком, ухватившимся за позолоченный кораблик. Потом вертолетчица достала из кармана расческу, и стала расчесывать ему волосы. А человек, сидящий на золотой игле, вдруг заплакал, обмяк и передумал. Передумал, но слезть уже не мог. И не видел, что внизу, среди зевак, стоит его мама и держится за сердце. Ее кто-то успокаивает, и тихо говорит, что она ни в чем не виновата, и что любой человек, если таково желание его, имеет полное право залезть на шпиль Адмиралтейства однажды ночью, и даже свалиться оттуда, если такова воля богов. Но мама никого не слышала. Ей только хотелось, чтобы он слез оттуда, живой, а если нет, если нет, то зачем тогда была вся эта жизнь, и зачем жестокие боги. 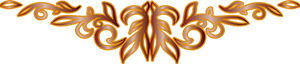 |
|
Категория: Проза › tanit | Просмотров: 1283 | Дата: 18.11.2016 | |
| Всего комментариев: 2 | |
|
| |


